Часть вторая Свежий холст, новая картина 11 марта 1839 г. 1 страница
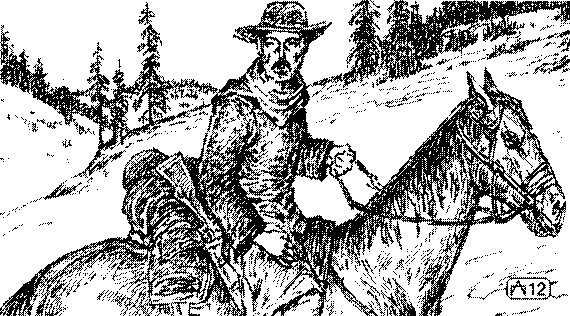
Иммигрант
В первый раз Роб Джей Коул узрел Новый Свет туманным весенним днем, когда пакетбот «Комрент» – неуклюжее судно с тремя невысокими мачтами и парусом на бизани, являющееся тем не менее гордостью «Блэк Болл Лайн»[2] – засосало приливом в просторную гавань, и оно, бросив якорь, стало качаться на волнах. Если смотреть с пристани, Восточный Бостон был невелик: всего лишь несколько рядов кое-как сколоченных деревянных домов. Но когда на одном из пирсов Роб заплатил три пенса и сел на небольшой паром, прокладывавший себе путь сквозь внушительное собрание судов, двигаясь через всю гавань к главной торговой части города – растянувшемуся вдоль берега ряду многоквартирных домов и магазинов, источающих умиротворяющий запах гниющей рыбы, затхлой трюмной воды и просмоленных тросов, то словно очутился в каком-то шотландском порту.
Роб был высоким и широкоплечим, крупнее, чем большинство его соотечественников. Когда он пошел извилистыми, выложенными булыжником улицами, удаляясь от портовой части города, то понял, как трудно ему стало двигаться: за время рейса мышцы отвыкли от подобных нагрузок. На левом плече он нес тяжелый сундук, а правой рукой осторожно, словно женщину, прижимал к себе большой струнный инструмент. Он впитывал Америку всеми фибрами своей души. Улицы, узкие настолько, что по ним с трудом могут проехать фургон или карета; здания, большей частью деревянные или построенные из ярко-красного кирпича; магазины, забитые всевозможным товаром, щеголяющие красочными вывесками с позолоченными буквами. Он с трудом сдерживался, чтобы не глазеть на женщин, идущих в магазин или выходящих на улицу: его снедало непреодолимое, как жажда у пьяницы, желание ощутить запах женщины.
Он заглянул в гостиницу под названием «Америкен хаус», но его смутили роскошные люстры и турецкие ковры: в подобном заведении цены явно непомерные. В столовой на улице Юнион-стрит он съел миску ухи и спросил у официантов, не могут ли они порекомендовать ему приличный, но недорогой пансион.
– Приятель, ты бы определился, какой пансион тебе нужен: приличный или недорогой, – усмехнулся один из них. Но другой официант покачал головой и отправил его в заведение миссис Бартон на Спринг-стрит.
Единственная свободная на тот момент комната изначально служила помещением для прислуги и располагалась между конурой батрака и клетушкой горничной. Это была крошечная каморка под свесом крыши, и, чтобы добраться до нее, приходилось подниматься на три лестничных пролета – здесь явно жарко летом и холодно зимой. В комнатке стояла узкая кровать, тумбочка с треснувшим умывальником и белый ночной горшок, покрытый льняным полотенцем с вышитыми на нем синими цветами. Луиза Бартон объяснила ему, что в оплату комнаты – доллар и пятьдесят центов в неделю – входит завтрак: овсянка, булочка и одно куриное яйцо. Она была вдовой, разменяла шестой десяток и обладала землистого цвета кожей и тяжелым взглядом.
– А это еще что за штука?
– Это называется «виола да гамба».
– Вы зарабатываете на пропитание, играя на виоле?
– Я играю для своего удовольствия, а кормит меня профессия врача.
Хозяйка пансиона кивнула, хотя он ее, очевидно, не убедил. Она потребовала плату вперед и сообщила, что еще за доллар в неделю он может столоваться в таверне недалеко от Бикон-стрит.
Как только она ушла, он рухнул в постель и весь день, а также вечер и ночь, проспал без сновидений, хотя изредка ему сквозь сон казалось, что под ним по-прежнему раскачивается корабль. Тем не менее проснулся он полным сил. Когда он спустился завтракать, то оказался за столом еще с одним постояльцем, Стэнли Финчем, служащим шляпного магазина на Саммер-стрит. Финч сообщил ему два факта первостепенной важности. Факт первый: можно заплатить привратнику, Лему Раскину, чтобы тот нагревал воду и наполнял ею оловянную ванну (двадцать пять центов в неделю). Факт второй: в Бостоне есть три больницы – Массачусетская городская больница, роддом и лор-клиника.
После завтрака Шаман поблаженствовал в ванне, начав тереть тело мочалкой, лишь когда вода остыла. Долго старался привести одежду в как можно более презентабельный вид. Когда он спускался в холл, то натолкнулся на горничную: та, стоя на четвереньках, мыла лестничную клетку. Ее обнаженные руки были усыпаны веснушками, а упругие ягодицы подрагивали от энергичных движений. Когда он проходил мимо, она подняла к нему угрюмое, круглое, как у кошки, лицо, и он заметил, что под чепчиком у нее рыжие волосы, причем именно того оттенка, который нравился ему меньше всего: сырой моркови.
В Массачусетской городской больнице он просидел несколько часов, прежде чем его принял доктор Уолтер Ченнинг – и, не теряя времени даром, немедленно сообщил ему, что больница полностью укомплектована врачебным персоналом. Точно такой же прием его ожидал и в двух других лечебных заведениях. В роддоме молодой врач по имени Дэвид Хамфрис Сторер сочувственно покачал головой.
– Гарвардская медицинская школа каждый год выпускает врачей, которым приходится становиться в очередь, ожидая, когда освободятся места в штате, доктор Коул. По правде говоря, у приезжих очень мало шансов.
Роб Джей знал, о чем умолчал доктор Сторер: некоторым местным выпускникам помогали авторитет и связи семьи; точно так же в Эдинбурге он сам воспользовался преимуществом принадлежности к роду потомственных врачей – Коулов.
– На вашем месте я бы попробовал найти работу в другом городе – Провиденсе или Нью-Хейвене, – посоветовал ему доктор Сторер, и Роб Джей пробормотал слова благодарности и удалился. Однако буквально через минуту Сторер догнал его. – Знаете, есть одна возможность, – сообщил он. – Вам нужно побеседовать с доктором Уолтером Олдричем.
Кабинет этого терапевта находился в его доме, ухоженном каркасном здании белого цвета на южной стороне похожего на луг травянистого клочка, который носил гордое название городского парка. Поскольку было время приема, Робу Джею пришлось довольно долго ждать своей очереди. Доктор Олдрич оказался полным мужчиной с густой седой бородой и пышными усами, которые, однако, были не в силах скрыть узкий, словно рана, рот. Он слушал рассказ Роба Джея, время от времени задавая вопросы. Университетская больница в Эдинбурге? Под руководством хирурга Вильяма Фергюсона? Но по какой причине он отказался от подобной ассистентуры?
– Меня бы выслали в Австралию, если бы я не сбежал. – Он понимал, что в подобной ситуации врать нельзя. – Я написал памфлет, который вызвал бунт рабочих против английской короны, в течение многих лет обескровливавшей Шотландию. Завязалась драка, несколько человек погибли.
– Весьма откровенно, – кивнул доктор Олдрич. – Мужчина должен бороться за благосостояние своей страны. Мой отец и дед тоже сражались с англичанами. – Он вопросительно посмотрел на Роба Джея. – Есть одна вакансия. В благотворительном обществе, которое направляет врачей оказывать помощь беднейшим слоям населения нашего города.
Похоже, работа была тяжелой и даже опасной; а когда доктор Олдрич сказал, что большинству врачей, выезжающих на дом к пациентам, платят пятьдесят долларов в год и что они с радостью хватаются за такую возможность получить опыт, Роб спросил себя: что врач из Эдинбурга может узнать о медицине в американских трущобах?
– Если вы также станете сотрудничать с Бостонской поликлиникой, я похлопочу о том, чтобы вы по вечерам ассистировали преподавателю в анатомическом театре Медицинской школы Тремонта. Это принесет вам еще двести пятьдесят долларов в год.
– Я сомневаюсь, что смогу существовать на триста долларов в год, сэр. У меня почти нет никаких сбережений.
– К сожалению, больше ничего предложить не могу. Вообще-то годовой доход составит триста пятьдесят долларов. Ваш участок – Восьмой район: совет управляющих поликлиники недавно проголосовал за то, чтобы платить работающему там врачу сто долларов вместо пятидесяти.
– Но почему Восьмой район платит вдвое больше, чем остальные?
Теперь настал черед доктора Олдрича говорить начистоту.
– Там живут ирландцы, – заявил он, и его голос был столь же сухим и бесцветным, как и губы.
На следующее утро Роб Джей поднялся по скрипящим ступеням в доме номер сто девять по Вашингтон-стрит и вошел в тесную аптеку, где находился единственный кабинет Бостонской поликлиники. В помещении уже толпились врачи, ожидающие назначений на текущий день. Когда очередь дошла до Роба, Чарльз К. Вильсон, заведующий поликлиникой, заговорил резко и деловито.
– Ага. Новый врач в Восьмой район, верно? Что ж, мы давно туда не заглядывали. Вас там ждут, – заявил он, склонившись над пачкой бланков, на каждом из которых были проставлены имя больного и адрес.
Вильсон объяснил правила и описал Восьмой район. Между доками и мрачной громадой Форт-хилл проходит Броуд-стрит. Когда город только основали, окрестности населяли торговцы, построившие здесь просторные дома, чтобы все время находиться недалеко от складов и магазинов у береговой линии. Со временем они переехали в другие, более престижные районы, а опустевшие дома заняли рабочие-янки; позже им на смену пришли еще более бедные арендаторы – индейцы, и тогда же просторные помещения разделили на более мелкие; и наконец, из трюмов кораблей сюда хлынули иммигранты-ирландцы. К тому времени огромные здания уже обветшали, превратились в бараки и сдавались в субаренду за немыслимо высокую плату. Складские помещения перегородили, так что теперь они представляли собой настоящие ульи из крошечных комнат без единого источника света или воздуха, а жилая площадь в них была настолько незначительной, что вокруг каждого здания появились уродливые, кособокие лачуги. В результате возникли ужасные трущобы, где в одной комнате порой обитало по двенадцать душ: жены, мужья, братья, сестры и дети; случалось, что все они спали вместе, в одной кровати.
Следуя указаниям Вильсона, он нашел Восьмой район. Вонь от Броуд-стрит, миазмы, источаемые слишком немногочисленными туалетами, куда ходило слишком много людей, были запахом бедности, одинаковым в любом городе мира. Что-то в душе Шамана обрадовалось ирландским лицам, напомнив о принадлежности к кельтскому народу.
Первый бланк был выписан на имя Патрика Гейгана из Хаф-Мун-плейс; искомый дом с тем же успехом мог находиться на луне, поскольку Роб Джей почти сразу же заблудился в лабиринте улочек и переулков без каких-либо опознавательных знаков, берущих начало от Броуд-стрит. Наконец, он дал пенни какому-то неумытому мальчишке, и тот привел его в тупичок, где толпились люди. Постоянно спрашивая дорогу, он оказался на последнем этаже одного из домов, где ему пришлось сначала пройти через комнаты, занятые двумя другими семьями, прежде чем он добрался до крошечного обиталища Гейгана. Но там он обнаружил только женщину, которая при свете свечи искала в волосах у ребенка.
– Где Патрик Гейган?
Робу Джею пришлось повторить это имя, и лишь затем он услышал хриплый шепот:
– Мой отец… Дней пять как умер. Воспаление мозга.
Шотландцы тоже использовали этот термин: он означал высокую температуру, после которой наступала смерть.
– Мои соболезнования, мадам, – тихо произнес он, но она даже не подняла головы.
Спустившись, он остановился и осмотрелся. Он знал, что в каждой стране есть такие улицы, словно предназначенные для существования несправедливости – такой сокрушительной, что она создает свои собственные пейзажи, и звуки, и запахи: ребенок с мучнистым цветом лица, сидящий на крыльце и грызущий тонкую шкурку бекона, как собака – кость; три ботинка из разных пар, изношенные так, что починить их уже невозможно, украшающие замусоренный, немощеный переулок; пьяный мужской голос, исполняющий, словно церковный гимн, плаксивую песню о зеленых холмах покинутой родины; проклятия, выкрикиваемые с не меньшей страстью, чем молитвы; запах вареной капусты, перекрываемый несущейся отовсюду вонью от забитых стоков и различных видов грязи. Он был знаком и с бедными районами Эдинбурга и Пейсли, и с каменными зданиями ленточной застройки в десятке городов, где взрослые и дети уходят из дому еще затемно и плетутся на хлопчатобумажные и суконные фабрики, а возвращаются, еле волоча ноги, много часов спустя, когда темнота снова опустится на город, – таким образом, на улицу они выходят лишь по ночам. Его неожиданно поразила ирония ситуации, в которой он оказался: он сбежал из Шотландии, потому что боролся с силами, создавшими трущобы, подобные этим, но, оказавшись в новой стране, снова попал в то же болото.
Следующий бланк был выписан на имя Мартина О’Хара из Хэмфри-плейс – района лачуг и трущоб, который врезался в склон холма Форт-хилл, а добираться до него надо было по деревянной лестнице длиной в пятьдесят футов, такой крутой, что она очень походила на стремянку. Вдоль лестницы по склону спускалась деревянная же открытая сточная канава, по которой медленно стекали сточные воды Хэмфри-плейс, сливаясь внизу с отбросами Хаф-Мун-плейс. Поднимался он быстро, уже свыкаясь с новой работой.
Она, конечно, изматывала, но в конце дня его ожидали лишь скудная, торопливая трапеза и вечер, посвященный второй работе. По отдельности ни одно из этих двух занятий не дало бы ему достаточно денег, чтобы прожить месяц, а оставшихся сбережений хватит лишь на несколько обедов.
Анатомический театр и классная комната медицинского училища Тремонта представляли собой одно большое помещение над аптекой Томаса Меткалфа по адресу Тремонт-плейс, 35. Распоряжалась им группа гарвардских профессоров. Возмущенные бессистемным медицинским образованием, которое предлагала их alma mater, они разработали собственную программу трехлетних курсов, призванную, по их мнению, повысить качество подготовки врачей.
Профессор патологии, с которым ему предстояло работать в качестве преподавателя-ассистента, оказался низеньким кривоногим человечком лет на десять старше его. Профессор небрежно кивнул ему:
– Меня зовут Холмс. У вас большой опыт преподавания, доктор Коул?
– Нет. Я никогда и ничего не преподавал. Но у меня большой опыт в хирургии и проведении вскрытий.
Холодный кивок профессора Холмса говорил: посмотрим. Он кратко и в общих чертах обрисовал приготовления, которые следует сделать перед началом лекции. За исключением некоторых деталей, они оказались стандартными, уже знакомыми Робу Джею. Они с Фергюсоном вскрывали трупы каждое утро, перед тем как идти на обход – в исследовательских целях и просто чтобы попрактиковаться, поддержать ту скорость выполнения операций, которая помогала им спасать жизни. Он снял простыню с трупа худого юноши, надел длинный серый фартук и достал инструменты: студенты уже начали собираться.
Их оказалось всего лишь семеро. Доктор Холмс встал за кафедру, сбоку от прозекторского стола.
– Когда я изучал анатомию в Париже, – начал он, – любой студент мог купить всего за пятьдесят су целое тело в месте, где их продавали ровно в полдень. Но в последнее время трупов для исследований не хватает. Этот юноша, шестнадцати лет от роду, умерший сегодня утром от отека легких, попал к нам от Управления по делам милосердия. Нынче вечером вы не станете производить вскрытия. На одном из предстоящих занятий тело разделят между всеми вами для изучения: двое получат по одной руке, еще двое – по одной ноге, остальные займутся туловищем.
Под аккомпанемент комментариев доктора Холмса Роб Джей вскрыл грудь юноши и начал вынимать органы и взвешивать их, четко объявляя о весе каждого, чтобы профессор мог записать данные. После этого в его обязанности входило указывать на различные участки тела, тем самым иллюстрируя лекцию профессора. Холмс говорил запинаясь, а голос у него оказался пронзительным, но Роб Джей сразу понял, что студенты слушают его лекции с восторгом. Он не боялся отпустить соленую шутку. Иллюстрируя особенности движений руки, он нанес мощный апперкот воображаемому противнику. Объясняя механику движения мышц ноги, он пнул ногой воздух, а демонстрируя работу мышц бедер, исполнил танец живота. Студенты ловили каждое его движение. В конце лекции они обступили доктора Холмса и засыпали его вопросами. Отвечая на них, профессор наблюдал, как его новый ассистент положил тело и анатомические образцы в резервуар с физраствором, вымыл стол, а затем вымыл и высушил инструменты и убрал их. Когда ушел последний студент, Роб Джей тщательно вымыл руки до локтей.
– Вы проявили себя достаточно хорошо.
А почему бы и нет, вертелось у него на языке, ведь эту работу может выполнить любой неглупый студент? Но вместо этого он смиренно уточнил, нельзя ли получить деньги авансом.
– Мне сообщили, что вы работаете на благотворительную поликлинику. Я когда-то был на вашем месте. Работа чертовски тяжелая и выбраться из нищеты не дает, но хороша как практика. – Холмс достал из кошелька две банкноты по пять долларов. – Вам хватит зарплаты за первые две недели?
Роб Джей постарался не выдать голосом чувства облегчения, заверив доктора Холмса, что этого достаточно. Они выключили лампы, попрощались в конце лестницы и разошлись в разные стороны. От осознания того, что в кармане у него лежат банкноты, кружилась голова. Когда он проходил мимо «Пекарни Аллена», тот как раз убирал с витрины подносы с печеньем, собираясь закрываться на ночь, и Роб Джей вошел и купил два пирога с ежевикой, чтобы отпраздновать первый рабочий день.
Он собирался съесть их у себя в комнате, но в доме на Спринг-стрит горничная еще не спала – заканчивала мыть посуду, – и он свернул в кухню и протянул ей пироги.
– Один из них ваш, если вы поможете мне украсть немного молока.
Она улыбнулась.
– Можете не шептать. Она спит. – Девушка ткнула пальцем в направлении комнаты миссис Бартон на втором этаже. – Если она заснула, то ее уже ничто не разбудит. – Она вытерла руки и достала кринку молока и две чистые чашки, и они насладились тайным сговором и воровством. Горничная сообщила ему, что ее имя Маргарет Холланд, но все зовут ее Мэг. Когда они закончили пировать, в уголках ее пухлых губ остался молочный след, и Роб Джей протянул руку через весь стол и уверенным движением хирурга стер улику пальцами.
Урок анатомии
Он почти сразу увидел существенный недостаток системы, используемой поликлиникой: имена на бланках, которые он получал каждое утро, вовсе не принадлежали самым больным людям в окрестностях Форт-хилл. План заботы о здоровье граждан был несправедлив и недемократичен: бланки распределялись среди богатых меценатов поликлиники, которые раздавали их, кому хотели, чаще всего – собственным слугам, как награду. Нередко Роб Джей заходил в очередную квартиру, чтобы лечить ее обитателя от легкого недомогания, в то время как дальше по коридору находилось жилье безработного бедняка, умирающего из-за отсутствия медицинской помощи. Клятва, которую он дал, когда стал врачом, запрещала ему отказывать в лечении тяжело больному пациенту; однако, если он хотел сохранить рабочее место, то должен был возвращать бланки в офис в большом количестве и докладывать о том, что вылечил пациентов, чьи имена стояли на бумаге.
Однажды вечером, после занятий в медицинской школе, он поднял этот вопрос в беседе с доктором Холмсом.
– Когда я служил в поликлинике, то брал чистые бланки у друзей семей, которые жертвовали деньги, – сказал профессор. – Я снова возьму у них бланки и отдам их вам.
Роб Джей поблагодарил его за предложение, хотя настроение у него не улучшилось: он понимал, что не сможет собрать достаточное количество чистых бланков, чтобы вылечить всех нуждающихся пациентов в Восьмом районе. Для этого потребовалась бы целая армия врачей.
Часто случалось так, что самая отрадная часть дня у него начиналась поздно вечером, когда он возвращался на Спринг-стрит и проводил несколько минут с Мэг Холланд, украдкой поглощая припрятанные ею остатки еды. У него также вошло в привычку делать ей небольшие подношения: полный карман жареных каштанов, кусочек кленового сахара, несколько желтых яблок. Ирландка в свою очередь рассказывала ему местные сплетни: как мистер Стэнли Финч (второй этаж, прямо) хвастал – хвастал! – что влюбил в себя девчонку в Гарднере и бросил ее беременной; что миссис Бартон может быть как очень милой дамой, так и настоящей сукой, и предугадать ее настроение невозможно; что батрак, Лемюэль Раскин, живший в соседней с Робом Джеем комнате, любитель заложить за воротник.
Спустя неделю со дня их знакомства Мэгги подчеркнуто небрежно упомянула, что, стоит Лему получить полпинты бренди, он выпивает все за один присест и моментально засыпает беспробудным сном.
На следующий же вечер Роб Джей преподнес в подарок Лемюэлю бренди. Ожидание оказалось долгим, и он уже не раз успел подумать, что повел себя как дурак, а девчонка просто трепала языком. Старый дом по ночам наполняли звуки: скрип половиц, гортанный храп Лема, таинственные потрескивания в деревянной обшивке. Наконец с той стороны двери раздался еле различимый звук, лишь отдаленно напоминающий стук, и, когда Роб открыл дверь, в его берлогу проскользнула Маргарет Холланд, принеся с собой слабый запах женственности и помоев. Она прошептала, что ночь будет прохладной, и протянула ему предлог своего визита – протертое до дыр дополнительное одеяло.
Не прошло и трех недель после вскрытия трупа юноши, как Медицинская школа Тремонта получила еще одно бесценное сокровище – тело молодой женщины, которая умерла в тюрьме от горячки после рождения ребенка. Тем вечером доктор Холмс задержался в Массачусетской городской больнице, и лекцию читал доктор Дэвид Сторер из роддома. Но не успел Роб Джей приступить к вскрытию, как доктор Сторер настоял на том, чтобы тщательнейшим образом осмотреть руки своего ассистента.
– У вас есть заусенцы или трещины на коже?
– Нет, сэр, – немного обиженно ответил он, не понимая такого интереса к своим рукам.
Когда урок анатомии закончился, Сторер велел студентам перейти в другую часть комнаты, где собирался продемонстрировать им, как следует проводить внутренний осмотр беременных пациенток или страдающих заболеваниями по женской части.
– Вы можете столкнуться с такой ситуацией: скромные жительницы Новой Англии стараются уклониться от подобного осмотра, – сказал он. – Но именно вы должны завоевать доверие пациентки и помочь ей.
С доктором Сторером пришла крупная женщина на последнем сроке беременности – возможно, проститутка, которую специально наняли в качестве наглядного пособия. Профессор Холмс появился, когда Роб Джей мыл и приводил в порядок анатомический стол. Когда он закончил, то решил присоединиться к студентам, осматривавшим женщину, но доктор Холмс неожиданно разволновался и преградил ему путь.
– Нет-нет! – воскликнул профессор. – Тщательно вымойтесь и уходите. Немедленно, доктор Коул! Идите в «Эссекскую таверну» и ждите меня там, а я пока соберу необходимые заметки и документы.
Роб был озадачен и раздражен, но приказу подчинился. Таверна находилась сразу за углом школы. Он заказал пиво, потому что сильно нервничал, хотя ему и пришло в голову, что его, возможно, уволят с должности ассистента профессора, а потому деньгами разбрасываться не стоит. Он успел выпить лишь половину содержимого кружки, когда в помещение вошел второкурсник по имени Гарри Лумис: он нес два блокнота и несколько оттисков медицинских статей.
– Это вам от поэта.
– От кого?
– Разве вы не знаете? Он известный бостонский поэт. Когда Диккенс гостил в Америке, именно Оливера Уэнделла Холмса попросили написать приветственное стихотворение. Но не волнуйтесь, врач он куда лучший, чем поэт. Потрясающий лектор, не так ли? – Лумис быстро подал знак принести и ему кружку пива. – Хотя у него есть пунктик по поводу мытья рук. Он считает, что грязь вызывает инфекцию в ранах!
Лумис также принес записку, небрежно набросанную на оборотной стороне старого счета за настойку опия из аптеки «Викс и Поттер»: «Доктор Коул, прочитайте это прежде, чем возвращаться в медшколу Тремонта завтра вечером. Обязательно, я наст. Вс. ваш, Холмс». Он начал читать почти сразу, как вернулся к себе в комнату в заведении миссис Бартон: сперва несколько обиженно, но чем дальше, тем с большим интересом. Факты были изложены Холмсом в статье, опубликованной в «Ежеквартальном медицинском журнале Новой Англии», а также в аннотации, вышедшей в «Американском журнале медицинских наук». Поначалу информация в них была знакомой Робу Джею, потому что все то же самое он знал из опыта работы в Шотландии: у значительной части рожениц неожиданно поднималась высокая температура, которая быстро сменялась общим заражением крови, после чего наступала смерть.
Но помимо того в статье доктора Холмса утверждалось, что некий врач по имени Уитни из города Ньютон, штат Массачусетс, которому ассистировали два студента-медика, провел вскрытие женщины, умершей от родильной горячки. У доктора Уитни был заусенец на пальце, а у одного из студентов-медиков – маленький свежий шрам от ожога на руке. Ни один из них не считал эти повреждения чем-то большим, чем мелкой неприятностью, но уже через несколько дней рука у врача начала пощипывать. В районе локтя появилось красное пятно размером с горошину, и от него к заусенцу тянулась тонкая красная линия. Рука неожиданно опухла и стала вдвое больше нормального размера, у врача быстро поднялась очень высокая температура, начались приступы неконтролируемой рвоты. Тем временем у студента с обожженной рукой тоже началась лихорадка, и за несколько дней его состояние значительно ухудшилось. Кожа у него приобрела багровый оттенок, живот вздулся, и вскоре он умер. Доктор Уитни оказался на волоске от смерти, но постепенно ему становилось лучше, и в конце концов он выздоровел. Второй студент-медик, на руках у которого не было никаких повреждений во время вскрытия трупа, ничем серьезным так и не заболел.
Этот случай получил огласку, и бостонские врачи подробно обсуждали очевидную связь между открытыми ранами и заболеванием родильной горячкой, но к конкретным выводам не пришли. Однако несколько месяцев спустя один врач в городе Линн осматривал больную родильной горячкой, имея на руках открытые раны, и буквально в считаные дни умер от обширной инфекции. Во время заседания «Бостонского общества усовершенствования медицины» был поднят интересный вопрос: что бы произошло, не будь у покойного врача на руках открытых ран? Даже если бы он не заразился, разве он не стал бы переносчиком инфицирующего вещества, распространяя болезнь всякий раз, когда ему доводилось касаться ран другого пациента или истерзанной матки роженицы?
Оливер Уэнделл Холмс так и не смог выбросить этот вопрос из головы. В течение многих недель он изучал данное явление: посещал библиотеки, просматривал собственные записи и просил разрешения заглянуть в истории болезни у тех врачей, которые принимали роды. Как человек, пытающийся сложить головоломку, он собрал внушительную коллекцию свидетельств, охватывающую целое столетие врачебной практики на двух континентах. Интересующие его случаи появлялись спорадически и оставались незамеченными в медицинской литературе. И лишь когда он стал выделять и объединять их, они, подкрепляя друг друга, сложились в общую ужасающую и неопровержимую картину: родильную горячку вызывали врачи, медсестры, акушерки и обслуживающий персонал больниц – все они после контакта с инфицированными больными осматривали здоровых до того момента женщин и обрекали их на смерть от горячки.
Родильная горячка – мор, вызванный медиками, писал Холмс. И как только врач поймет это, следующий случай заражения женщины уже следует считать преступлением – убийством.
Роб прочитал материалы дважды и в ошеломлении вытянулся на кровати.
Ему очень хотелось найти в себе силы поднять автора на смех, но как истории болезни, проанализированные Холмсом, так и статистика казались безупречными с точки зрения человека непредубежденного. Но каким образом этому лекарю-коротышке из Нового Света удалось узнать больше, чем сэру Вильяму Фергюсону? Время от времени Роб помогал сэру Вильяму проводить вскрытия трупов пациенток, умерших от родильной горячки. Сразу после вскрытия они шли осматривать беременных женщин. И теперь он заставил себя вспомнить тех женщин, которые умерли после такого осмотра. Похоже, эти провинциалы способны сказать новое слово в медицине!
Он встал, чтобы подкрутить фитиль лампы и еще немного почитать материал, но в дверь поскреблись и в комнату проскользнула Маргарет Холланд. Она стеснялась раздеваться при нем, однако в крошечной комнатушке не было места для того, чтобы уединиться, и, кроме того, он уже тоже раздевался. Она аккуратно сложила одежду и сняла крестик. Ее тело было полным, но не рыхлым. Роб растер вмятины, которые корсет оставил на ее плоти, и уже перешел к более нежным ласкам, как вдруг замер, пораженный внезапной ужасной мыслью.
Оставив ее лежать в кровати, он встал и налил воду в умывальник. Пока девушка смотрела на него так, словно он потерял остатки рассудка, намылил и тщательно вымыл руки. Снова. Снова. И снова. Затем вытер их, вернулся в кровать и возобновил любовную игру. Маргарет Холланд, не в силах больше сдерживаться, захихикала.
– Вы самый странный молодой джентльмен, которого я знаю, – прошептала она ему на ухо.
Район, проклятый Богом
Поздно вечером, возвращаясь домой, он был таким уставшим, что крайне редко находил в себе силы играть на виоле да гамба. Играл он отвратительно, но музыка бальзамом лилась ему в душу – впрочем, к сожалению, очень скоро ему приходилось прекращать водить смычком по струнам, потому что Лем Раскин начинал стучать в стену, требуя тишины. Он не мог позволить себе регулярно поить Лема виски. Приходилось выбирать: обеспечивать себе либо музыкальный вечер, либо сексуальный. Страдать, разумеется, приходилось музыке. В каком-то журнале в библиотеке медицинской школы он прочитал, что если женщина не хочет становиться матерью, то после контакта ей нужно сделать спринцевание раствором квасцов и коры белого дуба. Он понимал, что нельзя быть уверенным в том, что Мэг будет регулярно проводить подобную процедуру. Гарри Лумис, когда Роб Джей обратился к нему за советом, отнесся к вопросу очень серьезно и направил его в опрятный серый домик на южной стороне Корн-хилла. Миссис Синтия Ворт обладала снежно-белыми волосами и манерами почтенной матроны. Когда Роб упомянул имя Гарри, она улыбнулась и кивнула: «Медикам я предлагаю хорошую цену».