УБИЙСТВО ИЛИ САМОУБИЙСТВО?
И.Д. БРАУДЕ
В УГОЛОВНОМ СУДЕ
ИЗ ЗАПИСОК ЗАЩИТНИКА
Г.
С ПРЕДИСЛОВИЕМ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСКОВСКОГО ГУБСУДАГ.М. СЕГАЛА
Кооперативное Издательское Товарищество
ПРАВО и ЖИЗНЬ
«МОСПОЛИГРАФ»
14-я типография.
Варгунихина гора, 8.
Москва, 1927 года.
Главлит № А-1448.
тираж 5.000.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Предлагаемая вниманию читателя книга не претендует на общественно-научный анализ факторов преступности, законов ее движения и т. п. В этой книге просто несколько очерков советского защитника, которому в течение ряда лет пришлось вместе с советским уголовным судом разбираться в большом количестве жизненных казусов, вылившихся в форму уголовных преступлений. Очерки эти облечены в живую, подчас художественную форму.
Автор не ставил себе цели освещения какой-либо определенной общественной или бытовой проблемы; поэтому подбор процессов, содержание которых он излагает, может показаться в значительной степени случайным. Тут мы видим бытовую трагедию сошедшихся под влиянием чувства мужчины и женщины, которых разделяет глубокая социальная рознь, проходят перед нами картины из быта кучки буржуазной молодежи, которая условиями советской действительности выбита из колеи спокойного мещанско-индивидуалистического существования, а к творческой работе создания новой общественности, новой культуры не пристала, и потому впала в состояние маразма, преждевременного постарения, прерываемого вспышками антисоциальных, общественно-опасных эксцессов; в очерке «Деревенская жуть» обрисована тяжелая картина деревенского детоубийства и т. д.
Однако, при всей кажущейся случайности подбора сюжетов, мы видим, что большая часть очерков имеет определенный стержень: они обрисовывают преступления людей, которые запутались в тенетах старого, отживающего бытового уклада старых, прогнивших бытовых отношений.
При всякой крупной общественной ломке, а в особенности в такой степени грандиозной, какой является наша революция, остается значительная группа людей, обеими ногами погрязших в пережитках, традициях старого, людей, реакция которых на новые жизненные условия зачастую принимает общественно-опасные формы.
Вот такие люди и их преступления изображены в большинстве очерков тов. Брауде.
Достоинством очерков является то, что они точно отображают события, действительно имевшие место, а ведь давно известно, что жизнь часто изощреннее и изобретательнее художника. Этой точности отображения не мешает некоторая субъективность в освещении подоплеки излагаемых событий, от которой автору, как принимавшему участие в процессах в качестве стороны, трудно было вполне отрешиться.
Нам представляется, что книга эта не только доставит занимательное чтение, но и даст материал как для работ чисто художественного характера, так и для работ криминолога и психиатра.
Г.М. СЕГАЛ.
_____________________
ОТ АВТОРА.
Вряд ли какая-либо иная деятельность соприкасается со столь многогранными сторонами жизни, как деятельность практического судебного работника.
Перед глазами судьи, прокурора и защитника проходит сама жизнь в ее подлинной, неприкрашенной действительности.
На суде раскрываются глубокие извилины человеческих отношений, обнажаются сокровенные мысли и намерения.
Дикая злоба, ревность и зависть, холодная корысть, жестокость и легкомыслие, подлость и предательство, и вместе с тем подлинная любовь и самоотвержение и страдания больной человеческой души проходят через залы судебных заседаний.
Здесь жизнь рисует такие замысловатые узоры, выявляет такую красочность и необычность отношений, каких не выдумать самой пылкой фантазии романиста.
Каждой эпохе соответствуют характерные для неё типы преступлений!
И если титаническая, творческая работа по переустройству старого общества увлекла и потянула за собой широкие массы, то у отдельных личностей коллизия между привычными бытовыми навыками и новыми условиями жизни создает внутренний конфликт, иногда проявляемый вовне в социально опасных действиях.
Деятельность защитника, имеющего по закону право беседовать наедине с подсудимым, открывает перед ним иногда край завесы, нередко наглухо опущенной в публичном судебном заседании.
Вот почему защитник, непосредственно соприкасающийся с преступником, получает наиболее полное и яркое впечатление о его интимных переживаниях и внутренней борьбе.
В этой книге я собрал несколько ярких случаев из моей судебной практики за последние пять дет; я выделил эти случаи из проведенных мною уголовных защит либо по их общественной значимости, либо по вызываемому ими психологическому или уликовому интересу.
Я не имел в виду и не сделал никаких общих выводов.
Я просто рассказал о том, что поразило меня в моей работе уголовного защитника в советском суде.
Но если социолог или психиатр найдет в представляемых мною судебных материалах что-либо ценное для общих выводов, я буду удовлетворен сознанием, что моя работа общественно не бесполезна.
По просьбе ряда лиц, в той или иной форме непосредственно проходивших в описанных мною процессах, я вынужден был в соответствующих очерках изменить их фамилии.
Самые же материалы, приводимые мною, изложены в полном соответствии с подлинными судебными производствами и записями, которые я в свое время вел в качестве защитника.
И. Брауде.
_______________________
ОБЕЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНЫ.
В дождливый осенний день 1922 года с прибывшего к Курскому вокзалу южного поезда сошла странная пара. Огромный, обращавший на себя внимание мощным телосложением и ростом крестьянский парень, одетый в потрепанное платье чернорабочего, и маленькая девочка лет десяти на вид, робко жавшаяся к своему спутнику. По неуверенному виду обоих, с недоумением оглядывавшихся вокруг, можно было безошибочно заключить, что эта странная пара впервые в большом городе.
Если бы в этот момент спросили парня, кто он и откуда он прибыл, мы услышали бы длинную повесть, так странно похожую на повесть тех многих, кого выплевывают дальние поезда в гущу московской жизни. Мы услышали бы про далекую южную деревню, про бедную крестьянскую семью, где парень (назовем его Линевым)[1] с раннего детства был сначала подпаском, затем вынужден был бросить деревню и уйти на заработки; затем он шахтер в Донецком бассейне, грузчик в приморском порту и, наконец, с момента призыва - служба в Красной армии, скитание по фронтам, бои, окопы... Линев рассказал бы нам, что после демобилизации он снова возвратился в деревню, но голод, охвативший родные места, отсутствие лошади, успевшей пасть за время его скитаний, выгнали его из деревни снова на поиски работы и счастья.
Он взял с собою свою маленькую сестренку, потому что ее не на кого было оставить в деревне и девочка была бы обречена на голод и беспризорность.
Линев не знал Москвы. Он ехал сюда с крошечным запасом денег на два-три дня; он не имел ни связей, ни знакомств, но неизбывная энергия и жажда жизни толкали его вперед.
Остановиться было негде и Линев с сестренкой вынуждены были ночевать либо на вокзале, либо на путях, в пустых товарных вагонах. Быстро исчезли гроши, взятые с собою и в первые же дни по приезде Линев стал понемногу зарабатывать, помогая носильщикам в переноске тяжестей. Работа неопределенная, случайная - день сыт, день голоден... Но о сестренке заботится в первую очередь, стараясь, чтобы она не испытывала лишений.
Случайно полуграмотный грузчик, выделяющийся своей могучей фигурой и исключительной силой, знакомится на вокзале с несколькими транспортными рабочими и с их помощью устраивается на более или менее периодическую, но все же поденную работу в коллективе грузчиков. Заработка, однако, не хватает и по вечерам, благодаря знакомству с одним борцом, Линев пополняет свой скудный бюджет тем, что борется в московских цирках в качестве любителя и сразу приобретает популярность, побеждая в борьбе испытанных старых борцов.
Между тем, в коллективе грузчиков наиболее передовая часть рабочих обращает внимание на недюжинный пытливый ум Линева, на его большую любознательность и жадное стремление к знанию. Несколько товарищей, связанных с профсоюзной работой, берутся за обучение Линева, воспитывают 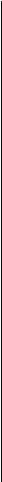 в нём классовое самосознание и в очень короткое время Линев, бесквартирный случайный грузчик, становится организованным рабочим, жадно впитывающим в себя знания. Пройдя через трудовую школу и профессиональную дисциплину, усвоив необходимые для профсоюзной работы навыки и сведения, Линев очень скоро становится популярным среди организованных грузчиков, вступает в ВКП и избирается рабочими председателем местного комитета.
в нём классовое самосознание и в очень короткое время Линев, бесквартирный случайный грузчик, становится организованным рабочим, жадно впитывающим в себя знания. Пройдя через трудовую школу и профессиональную дисциплину, усвоив необходимые для профсоюзной работы навыки и сведения, Линев очень скоро становится популярным среди организованных грузчиков, вступает в ВКП и избирается рабочими председателем местного комитета.
В июле 1925 года Линев, посещая по роду своей работы союз транспортных рабочих, зашел в юридическую консультацию союза для получения некоторых юридических справок. Случайно он попал к столу, за которым работала и давала юридические советы консультантка Эпштейн.
Эпштейн женщина лет тридцати, высокого роста, с пышной фигурой, красивым выразительным лицом. Дочь еврея нефтепромышленника, она с раннего детства была окружена тем довольством, которое давал буржуазный уклад жизни. Знание языков, светские манеры, все это с раннего детства было ею воспринято от гувернанток и воспитательниц. Юридический факультет и институт восточных языков в России, лекции за границей, где она подолгу жила, придавали Эпштейн внешний лоск, свойственный среде, из которой она вышла.
В описываемый момент Эпштейн была замужем за молодым военным ученым, работником Академии Генерального штаба, низкорослым болезненным молодым человеком, все свое время отдававшим науке. Слабый и больной, он мало уделял внимание жене и значительную часть времени, оставляя жену в N-ом доме ВЦИК, где они постоянно проживали, проводил в санаториях и домах отдыха.
Эпштейн сразу же обратила особое внимание на Линева и, задержав его на некоторое время после дачи ему соответствующих юридических разъяснений, вступила с ним в беседу частного характера. Отсюда завязалось более тесное знакомство, скоро перешедшее в интимную связь.
Что соединило этих двух столь разных между собою людей?
Почему Эпштейн, видевшая ежедневно людей самого разнообразного возраста, общественного положения и наружности, обратила свое внимание именно на Линева?.
Впоследствии на суде Эпштейн упорно настаивала на том, что внезапно зародившийся в ней интерес к Линеву был вызван его пытливым умом и его 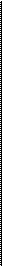 увлечением физкультурой, интересовавшей и ее и о которой случайно в беседе упомянул Линев.
увлечением физкультурой, интересовавшей и ее и о которой случайно в беседе упомянул Линев.
Однако, обстановка встречи и характерные особенности этих двух натур дали право защите на суде утверждать, что в основе встречи и сближения Эпштейн и Линева лежали совершенно иные моменты. Эпштейн - это особый психический тип женщины, часто встречавшийся в некоторых слоях так называемого «культурного» общества и создающийся на почве своеобразно складывающейся семейной обстановки. Крупная, бурно чувствующая женщина, с особой заостренностью ощущений и потребностей, характерной для воспитавшей ее среды, и рядом муж, близкий ей по общности духовных интересов и по семилетней совместной работе и, наконец, в силу долгих привычных отношений, но муж физически слабый, больной и хилый, очень мало уделяющий ей внимания. Отсюда своеобразная тоска, томление по сильной, здоровой ласке и... встреча с Линевым, молодым, бросающимся в глаза исключительной мощностью сложения и силой, сразу говорящим своим видом о неограниченных физических возможностях, таящихся в нем.
И интерес, проявленный Эпштейн к Линеву, это тот нездоровый интерес, который мы наблюдали когда-то в цирках, на чемпионатах борьбы, когда светские дамы, презрев хороший тон, и семью, и налаженный семейный уют, бросались в объятия цирковых борцов, подчиняясь влекущему зову огромных мужских мускулов, не думая и не задаваясь вопросом о том, что же будет дальше. И тогда некоторые из них пытались объяснять и оправдывать свое поведение «идеологически» - любовью к спорту. Эпштейн на суде объясняла это интересом к «физкультуре».
Так или иначе, сначала встречи, прогулки по городу, затем посещение Линевым комнаты Эпштейн в N-ом доме ВЦИК и между ними устанавливаются более или менее прочные отношения.
Что влекло Линева к Эпштейн?
Прежде всего, несомненно, внешняя привлекательность этой красивой крупной женщины, даже с точки зрения полового подбора, по-видимому, весьма подходившей к мощной фигуре Линева. С другой стороны, здесь была, несомненно, и некоторая доля своеобразного тщеславия. Вчерашний чернорабочий, прибывший из голодной деревни, Линев - сегодня имел в качестве подруги образованную юристку, красивую женщину из того мира, о котором до сего времени имел только отдаленное представление.
Страстные ласки двух физически совершенных человеческих экземпляров, постоянные встречи, 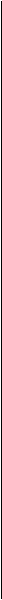
 сближают обоих. Появляется потребность ежедневных встреч. Непосредственную натуру Линева захватывает физическое обаяние этого нового для него типа женщины, дающей ему ряд острых неизведанных им дотоле наслаждений. Его отношение к Эпштейн становится все более и более серьезным и чувство свое к ней он оценивает также серьезно, называя ее своей женой и требуя, чтобы и она так же представляла его окружающим.
сближают обоих. Появляется потребность ежедневных встреч. Непосредственную натуру Линева захватывает физическое обаяние этого нового для него типа женщины, дающей ему ряд острых неизведанных им дотоле наслаждений. Его отношение к Эпштейн становится все более и более серьезным и чувство свое к ней он оценивает также серьезно, называя ее своей женой и требуя, чтобы и она так же представляла его окружающим.
Отсутствие мужа, уехавшего на лечение, облегчает встречи и фактически Линев почти живет в комнате Эпштейн. Он поступает на рабфак, совмещая учебу со своей профессиональной работой в месткоме. Эпштейн в минуты, свободные от ласк, старается, как она говорила на суде, поднять и возвысить Линева.
Но недолго длилось внешнее согласие между ними, в сущности, являвшееся только гармонией двух тел. Слишком разные натуры встретились и сошлись.
Здесь столкнулись два совершенно различных человека, продукты разных социальных группировок, люди по своей внутренней сущности бесконечно чуждые друг другу. Крестьянский сын, рабочий, вчерашний грузчик, примитивно чувствующий и столь же примитивно реагирующий на окружающую обстановку, и Эпштейн, дочь буржуазной среды, продукт другой социальной группировки, инстинктивно ненавидимой Линевым, избалованная прошлым укладом своей жизни, эстетная, тонкая и изощренная в интимных проявлениях своей бурной натуры.
Она по существу привязана не к личности Линева, а к его неисчерпаемым мужским способностям. Она искренне пытается уверить себя, что действительно любит Линева не только за его мужскую силу, но и за внутреннее содержание его бесспорно даровитой натуры; некоторое время она работает и занимается с ним, но глубокие противоречия, в корне разделяющие эту странную пару, не замедляют сказаться.
В душе Эпштейн глубокое раздвоение: физическое рабство перед мужской силой, боязнь потерять ее и вместе с тем, чувство виновности перед духовно и привычкой связанным с нею мужем, и самоощущение бездны, разделяющей ее с Линевым во всех других отношениях. Отсюда ласки, нежность и любовь до физического сближения и, наоборот, когда самка удовлетворена - обострение противоречий и на смену ласке - грубая ругань, оскорбления и унижение социального достоинства и личности Линева.
«Только полчаса тому назад», - говорил Линев на суде, - «казалось бы она душу готова отдать за 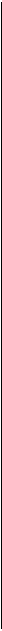 меня, лежала у ног моих, целовала мои руки, называла нежными именами, говорила, что всю жизнь не расстанется со мною... потом бурные объятия, сближение, а после видишь совершенно другую женщину - сидит, смотрит зверем, ругает альфонсом, котом, бандитом, рожей деревенской, кричит: ты мне нужен только как сильный мужчина для постели, плюет в физиономию».
меня, лежала у ног моих, целовала мои руки, называла нежными именами, говорила, что всю жизнь не расстанется со мною... потом бурные объятия, сближение, а после видишь совершенно другую женщину - сидит, смотрит зверем, ругает альфонсом, котом, бандитом, рожей деревенской, кричит: ты мне нужен только как сильный мужчина для постели, плюет в физиономию».
«Почему, же вы не ушли» - спросил на суде председательствовавший тов. Эрлих.
«Потому что чувствовал, что любил ее и жить без нее не мог», - как-то особенно грустно ответил Линев.
Несмотря на начавшиеся скандалы, чередовавшиеся с припадками нежности, Эпштейн разводится с мужем и регистрирует свой брак с Линевым.
Живя фактически вместе, с новым мужем, разделяя с ним одну кровать, Эпштейн, однако, из ложного самолюбия стыдилась, по-видимому, перед окружающими своего нового мужа и не только не знакомила его ни с кем из представителей своего круга, но старалась не допускать встреч Линева с ними. Это больно ударяло по самолюбию Линева и также служило источником сцен и недоразумений.
Особенно болезненно реагировал Линев, когда Эпштейн отказалась прописать его у себя в комнате. Он невольно воспринял это как нежелание жены рассматривать его как равного ей и как стремление ее оградить себя от могущих в дальнейшем возникнуть прав его на площадь.
Несмотря, однако, на все эти тяжелые переживания, страсть Линева к Эпштейн росла.
Эта женщина захватила его не только физическими своими особенностями, но сумела возбудить в нем своеобразную жажду отцовства.
Эпштейн забеременела и как-то сказала ему, что у них родится ребенок: «необыкновенный метис».
«Я, - говорил Линев на суде, - всей душой полюбил этого будущего моего сына и ждал его со страшным нетерпением. Я думал, - вот от таких двух сильных и здоровых, как мы, какой сын родится, всем на удивление. Я заранее любил его и каждый день говорил о нем с Эпштейн».
Но Эпштейн, привыкшая к абортам, и на этот раз уже в очень скором времени заявила Линеву о том, что думает сделать себе аборт. К этому, по ее словам, побуждала ее материальная нужда, так как она потеряла работу в консультации. Линев, чтобы поднять заработок, опять в свободные минуты начинает заниматься ремеслом грузчика и умоляет Эпштейн не делать аборта и не лишать его сына, 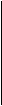

 о котором он так долго мечтал. Она обещает ему и Линев несколько успокаивается.
о котором он так долго мечтал. Она обещает ему и Линев несколько успокаивается.
17 ноября 1925 года из Крыма приехал первый муж Эпштейн, явившийся утром к ней в комнату. Линев и Эпштейн лежали еще в постели. На глазах у Линева Эпштейн вскочила с кровати и, расцеловавшись с приехавшим первым мужем, со словами: «Федя, он меня преследует», - указала на Линева и тут же вместе с мужем принялась ругать его, обзывая его хулиганом, мразью и грузчиком.
Линев, сдерживая волнение, оделся и вышел из комнаты Эпштейн с тем, чтобы никогда в нее больше не возвращаться. С безнадежным отчаянием и тоской, бесконечно обиженный, как автомат идет Линев к своему товарищу, женщине-работнице Андроновой, с которой он связан работой в месткоме и остается у нее, давая себе слово никогда не возвращаться к Эпштейн.
Однако, уже через день на квартиру к Андроновой прибегает Эпштейн, успевшая стосковаться по сильным ласкам Линева; она требует, чтобы он немедленно возвратился к ней, угрожая в противном случае произвести аборт. На Линева это производит страшное впечатление, он умоляет ее не делать аборта, выдает ей формальную расписку в том, что берет на себя всю ответственность за будущего ребенка и, будучи не в силах противостоять обаянию женщины, которую любит, уходит от Андроновой снова к Эпштейн.
Снова начинается совместная жизнь, недолгий период спокойствия и ровности отношений и вскоре снова те же дикие сцены и оскорбления. Положение осложняется еще и тем, что первый муж Эпштейн ежедневно приходит в ее комнату и свысока, самым унизительным образом, поощряемый Эпштейн, обращается с Линевым.
Человек железных нервов, не знавший дотоле, что значит выходить из себя, ежедневно подвергаемый тяжелым ударам и по самолюбию, и по чувству, выросшему и окрепшему, Линев начинает слабеть духом, нервничать, терять равновесие и отвечать Эпштейн также оскорблениями, порою в очень грубой форме, ругая ее «жидовкой» и угрожая побоями.
В феврале 1926 года Эпштейн неожиданно пропадает из дома.
Линев инстинктивно чувствует, что исчезновение Эпштейн находится в прямой связи с ее беременностью. Ужас при мысли о возможной гибели надежд на появление сына, с которыми успел уже свыкнуться Линев, потрясает его до последней степени.
Как сумасшедший бегает он по всем родильным приютам и гинекологическим лечебницам Москвы и в одной из них узнает, что на излечении значится Эпштейн.
Его не пускают в лечебницу в неприемный час, и он, этот атлет, не знавший до того, что такое нервы, кричит как истерическая женщина: «мой сын, моя жена, пустите».
Сторожа оказывают ему сопротивление. Тогда он разбрасывает всех в стороны, вбегает наверх по лестнице и в ближайшей же палате видит Эпштейн, лежащую на кровати, еще не оправившуюся после два дня тому назад произведенной операции.
С криком: «что ты сделала, где наш сын», он бросается к ней.
Быстрым движением срывает с нее одеяло и понимает все.
Дикий рев оглашает палату. Линев рыдает и бьется в истерике, как ребенок. Врачам едва удается его успокоить и отправить домой. На утро он снова приезжает в палату, забирает с собою Эпштейн и перевозит ее на квартиру.
Травма, произведенная этим случаем на психику Линева, была очень сильна.
Изнервничавшийся и без того до последней степени, он уже с трудом сдерживает себя, волнуется и нервничает по каждому мелкому поводу и исключительно болезненно реагирует на малейшие грубые выходки жены, которые не замедляют проявиться очень скоро. Ругань, брань, унижения личности Линева учащаются и доводят его до того, что он порывается снова уйти от Эпштейн, но раздвоение, происходящее в душе этой женщины, доводят ее тоже до странных и непоследовательных поступков.
Сейчас только кричала Линеву: «уйди, ты мне не нужен, ты хам, ты мне не пара», - и через несколько минут, внутренне боясь навсегда потерять его, она бежит за ним по лестнице N-гo дома ВЦИК, нагоняет у входных дверей и тащит его за рукав обратно, крича: «иди, иди, прости меня, я больше не буду». Так повторяется несколько раз.
Под влиянием истрепавшейся нервной системы Линев, как он сам объясняет, сделался каким-то безвольным и вслед за вспышками достоинства и самолюбия, вслед за резким реагированием - уходом: - на брань Эпштейн, через несколько же минут почти автоматически подчинялся ей и возвращался обратно.
Некоторые соседи по квартире на следствии и на суде утверждали, что он грозил Эпштейн «расправиться с нею как следует», а свидетельница Леснова прямо показала, что Линев угрожал вырвать ей глаз 

 и отрезать нос, но сам Линев в своих объяснениях суду ссылался на то, что не помнит этих моментов, если даже они и имели место.
и отрезать нос, но сам Линев в своих объяснениях суду ссылался на то, что не помнит этих моментов, если даже они и имели место.
29 февраля 1926 года Эпштейн с Линевым опять поссорились. Ссора произошла из-за вопроса о дальнейшем оформлении их отношений и материальной неурядицы. Ссора эта, как всегда, произошла после длительных и бурных супружеских ласк и объятий. Эпштейн снова кричала Линеву, что он ей не пара и что она требует, чтобы он убрался вон, затем она позвонила в швейцарскую и предложила швейцару вывести Линева из ее комнаты, в которой он не был прописан и официально жильцом не считался, сохраняя за собою прежнюю комнату на окраине города.
Линев, как всегда, поднялся и ушел, но уже на улице догнала его Эпштейн и с плачем требовала его возвращения. Линев заявил ей, что так как он сейчас не имеет места, где мог бы переночевать, он вернется обратно для того, чтобы забрать вещи и уйти уже навсегда.
Ночь они пробыли вместе.
На утро Линев собрал свои вещи и заявил Эпштейн, что уходит навсегда. В это время к телефону позвали Эпштейн.
Линев сидел за столом и чинил карандаш, держа в руках перочинный нож.
Эпштейн, беседуя со своей подругой о нем, бросала фразы: «Он хам, вонючий грузчик, я боюсь его, позвони в милицию, а то он, уходя, еще расправится со мною».
Линев подошел к телефону, взял у Эпштейн трубку и сказал ее подруге, чтобы она не беспокоилась, что он ничего дурного Эпштейн не сделает и что сейчас же соберет свои вещи и уйдет.
Кончив разговор, Линев положил трубку и отошел от телефона.
В этот момент на него набросилась Эпштейн и со словами: «Мразь, хам» и т. д. несколько раз плюнула ему в лицо.
Постепенно нараставшее в течение нескольких месяцев волнение, ежедневные скандалы и оскорбления, травматизировавшие психику Линева, тяжелые переживания, испытанные им в родильной лечебнице, возымели наконец свое действие, доведя до кульминационного пункта раздражение Линева.
Он бросился на Эпштейн и, по словам обвинительного заключения, пальцем выдавил ей глаз, а перочинным ножом нанес ранения левой щеки и носа.


 Об этом моменте Эпштейн показала впоследствии следующее:
Об этом моменте Эпштейн показала впоследствии следующее:
«Как припоминаю, он взял меня на руки и понес к кровати, шепча каким-то сдавленным голосом: тише, тише, и целуя меня в губы. Потом я сразу почувствовала, что он схватил меня за горло и пытается оторвать нос, затем вложил палец в левый глаз, ткнул пальцем еще второй раз в глаз. Я почувствовала безумную боль и потеряла сознание».
Линев утверждал во всех стадиях процесса, что он с момента, когда Эпштейн подошла к нему и плюнула в глаза, ничего не помнит. Перед глазами пошли какие-то «черные пятна» и дальше все выпадает из памяти до момента, когда он очнулся уже в камере.
Вбежавшие на крик швейцар и управляющий домом показали, что Линев после совершения им преступления имел «ненормальный вид».
«Я думал, что он с ума сошел», - говорил на суде свидетель.
Глаз Эпштейн был вставлен стеклянный, а нос и щека зашиты и лицо вследствие этого сильно обезобразилось.
 Дело это слушалось два раза в Московском губсуде.
Дело это слушалось два раза в Московском губсуде.
Центральным моментом при обоих разбирательствах, естественно, являлся вопрос о том, вменяем ли был в момент совершения преступления Линев, или же он действовал в состоянии патологического аффекта, исключающего вменяемость. Исход первого судебного разбирательства по делу Линева, в сущности, предрешила экспертиза психиатра Н. П. Бруханского. Привожу ее полностью.
«1926 года, 7 мая, я, в заседании Московского губернского суда 5, 6, и 1 мая, ознакомившись с материалами предварительного и судебного следствия, произвел освидетельствование гр. Линева, 28 лет, при чем оказалось, что у гр. Линева никаких признаков расстройства формальных психических способностей не обнаружено.
Гр. Линев является примитивной, т. е. простой, первобытной личностью, по своему психическому складу близкой к психике дикарей, детей, с их простыми, непосредственными примитивными реакциями во внешней среде. Это подтверждается не только его крестьянским происхождением и всем формированием и развитием его личности, но и теми проявлениями, которые можно установить на суде. Его любование собою, своим телом, сквозящее в каждом движении, 


 в его маршировке, выпячивании груди и временами величественной улыбке, пристальном взгляде, выражающем свое превосходство, свидетельствует о нарцисизме, т. е. о самовлюбленности и служит ярким доказательством его психического еще инфантилизма, проявления еще незрелых, детских, - более низших начал. Его развязность, самоуверенность, цинизм, подчас, может быть, нахальство, грубость во внешних проявлениях, при наличии в действительности мягкости, добродушия, «невозможности тронуть мухи», простых дружеских отношений с равными себе, - свидетельствует о сверхкомпенсации, т. е. чувстве своей психической недостаточности, компенсируемой, восполняемой внешней развязностью, что является тоже одним из свойств примитивности. Наконец, указания на его склонность пить кровь и есть сырое мясо, что тоже является признаком, указывающим на атавистические, первобытные механизмы, заложенные в каждом человеке в скрытом виде и выступающие ярко у Линева, указывающие на сильное развитие его инстинктивных начал. В наследственном отношении заслуживает внимания указание потерпевшей гр. Эпштейн, что сестра Линева, при наличии хороших способностей, отличается дикостью, лживостью, т. е. признаками, свойственными примитивным.
в его маршировке, выпячивании груди и временами величественной улыбке, пристальном взгляде, выражающем свое превосходство, свидетельствует о нарцисизме, т. е. о самовлюбленности и служит ярким доказательством его психического еще инфантилизма, проявления еще незрелых, детских, - более низших начал. Его развязность, самоуверенность, цинизм, подчас, может быть, нахальство, грубость во внешних проявлениях, при наличии в действительности мягкости, добродушия, «невозможности тронуть мухи», простых дружеских отношений с равными себе, - свидетельствует о сверхкомпенсации, т. е. чувстве своей психической недостаточности, компенсируемой, восполняемой внешней развязностью, что является тоже одним из свойств примитивности. Наконец, указания на его склонность пить кровь и есть сырое мясо, что тоже является признаком, указывающим на атавистические, первобытные механизмы, заложенные в каждом человеке в скрытом виде и выступающие ярко у Линева, указывающие на сильное развитие его инстинктивных начал. В наследственном отношении заслуживает внимания указание потерпевшей гр. Эпштейн, что сестра Линева, при наличии хороших способностей, отличается дикостью, лживостью, т. е. признаками, свойственными примитивным.
Чрезвычайно важным обстоятельством в развитии примитивной личности являются новые условия, новая обстановка, особенно, когда субъект попадает в большой город, в столицу. У примитивной личности в столице, с ее необычайным ритмом жизни, часто при неблагоприятных условиях, нарастает внутренний конфликт из-за несоответствия тех наличных психических средств, которые имеются у субъекта, с теми требованиями, которые предъявляются к нему жизнью большого города. Этим, например, объясняются часто встречающиеся самоубийства среди прислуги.
Гр. Линев, как безусловно способный и толковый человек, попав в Москву, скоро выделился и занял ответственное место. И здесь уже для него выступает сознание, чувство своей недостаточности. Встреча же с женщиной, социально и культурно чуждой ему, давшей ему новое, им неиспытанное в любви, захватывает всецело его. Классовое противоречие, отсутствие духовной связи, чувство своей недостаточности выступает в полной мере. Внутренний конфликт углубляется и нарастает. Он пытается уйти и вместе с тем не может. Скандал, устроенный им в лечебнице после аборта, сигнализирует переливающуюся через край аффективность. Аффективное состояние Линева, исподволь нарастающее, все время увеличивается. 
 Таково показание свидетельницы Л-ной относительно нарастающей раздражительности Линева в течение последних одного - двух месяцев.
Таково показание свидетельницы Л-ной относительно нарастающей раздражительности Линева в течение последних одного - двух месяцев.
Что касается инкриминируемого гр. Линеву преступления, то считаю, во-первых, что у гр. Линева, как это явствует из свидетельских показаний, в период времени, предшествовавший преступлению, имелись мысли, связанные с низменными побуждениями: гр. Линев, угрожая Эпштейн, говорил, что он убьет ее или изуродует и таким образом, она никому не будет принадлежать, что, во-вторых, преступные действия носили сложный и целесообразный характер: гр. Эпштейн была обезображена; на лицо имеется выполнение именно тех преступных действий, о которых он говорил и, в-третьих, что преступное действие в виде ранения и вывиха глаза, хотя чрезвычайно болезненно, но по времени очень коротко и совершенно неожиданно; когда он нес ее на постель, гр. Эпштейн ничего в нем не замечала. С этого момента, по словам обвиняемого, у него имеется выпадение воспоминаний, обнимающее период времени до момента, когда он был уже в камере. Объективных доказательств такого выпадения целого периода из памяти представить невозможно. Однако, описание им характера выпадения с момента, когда у него пошли перед глазами «черные пятна», и момента, когда он очнулся в камере, а также описание потерпевшей Эпштейн его совершенно измененного голоса, когда он, совершая преступление, шипел «тише, тише, тише» и единственного свидетеля, наблюдавшего обвиняемого после совершения им преступления, когда Линев имел «ненормальный вид, я думал что он с ума сошел», «слова мешал» - типичны - для состояний, когда сознание бывает расстроено и затемнено.
 Таким образом, состояние, в котором; совершалось Линевым преступление, явилось разрядом довольно длительного нарастающего аффективного состояния, которое прошло по путям наиболее коротким минуя всю личность в целом, аналогично действию короткого замыкания. В таком состоянии часть сознания отщепляется, становится автономной, действует по каким то иным путям вне контроля своей личности. Такие действия короткого замыкания могут выполняться или в состоянии припадка со склонностью затемнения сознания, или же иметь вид нормального действия при ясном сознании, но в обоих случаях действие вместе с аффективным импульсом, вызвавшем его, образует одно сплоченное целое, отщепленное от прочей личности. Импульс - побудительная сила, не проходит через фильтр всей личности, а прямо переходит в нашу психомоторную, двигательную сферу и проявляется в действии наиболее близко лежащем к данному аффекту. Этим и обусловлен самый характер преступных действий Линева.
Таким образом, состояние, в котором; совершалось Линевым преступление, явилось разрядом довольно длительного нарастающего аффективного состояния, которое прошло по путям наиболее коротким минуя всю личность в целом, аналогично действию короткого замыкания. В таком состоянии часть сознания отщепляется, становится автономной, действует по каким то иным путям вне контроля своей личности. Такие действия короткого замыкания могут выполняться или в состоянии припадка со склонностью затемнения сознания, или же иметь вид нормального действия при ясном сознании, но в обоих случаях действие вместе с аффективным импульсом, вызвавшем его, образует одно сплоченное целое, отщепленное от прочей личности. Импульс - побудительная сила, не проходит через фильтр всей личности, а прямо переходит в нашу психомоторную, двигательную сферу и проявляется в действии наиболее близко лежащем к данному аффекту. Этим и обусловлен самый характер преступных действий Линева.
На основании вышеизложенного прихожу к заключению, что инкриминируемое Линеву преступление совершено им в состоянии временного расстройства душевной деятельности, т. е. в состоянии, которое попадает под действие ст. 17 УК».
Губсуд, после трехдневного разбирательства 7 мая 1926 года, признав, что изложенная выше экспертиза вполне соответствует фактическим обстоятельствам дела, определил дело производством прекратить.
Это определение Губсуда было, однако, опротестовано губернским прокурором и отменено кассационным отделением Губсуда с назначением дела на вторичное слушание в ином составе присутствия.
Линев, освобожденной после определения о прекращении дела из-под стражи, был снова арестован и заключен в Таганский дом заключения.
Я вступил в дело в качестве защитника Линева при вторичном разбирательстве.
Вспоминаю мое первое впечатление от встречи с Линевым в тюрьме.
Этот огромный, подавлявший своей величиной мужчина, производил впечатление какого-то большого ребенка, бесконечно обиженного и плохо осознающего какое страшное дело он сотворил.
Я просидел у него несколько часов и Линев, волнуясь и жестикулируя, рассказал мне всю историю его взаимоотношений с Эпштейн.
Особенно поразили меня следующие его слова:
«Но я скажу вам, - любил я ее, люблю и буду любить. Всего она меня заполонила. И вот, ругала она меня на суде, и клеймила, и всячески поносила, как-будто гибели моей хотела, а у меня нет никакой злобы и тянет к ней - сил нет терпеть».
Я спросил Линева, каково, по его мнению, отношение Эпштейн к нему в настоящий момент.
«А я вам скажу какое» - ответил Линев. «Вот она меня на суде позорила, просила, чтобы меня побольше засадили, потому будто, что иначе я ее опять изуродую или убью, а сама мне все время передачи через няньку посылала и сейчас посылает. И вот эти дни, которые я был на свободе после первого суда, мы опять встречались; она меня возила куда-то на дачу, там две ночи ночевали как муж и жена».

 Ко второму слушанию дела уже были вызваны в качестве экспертов психиатры: Внуков, Введенский Довбня, Терешкович, Тэриан. После четырехдневного рассмотрения дела, они, дали заключение о том, что состояние, в котором Линев находился в момент совершения преступления, следует, по мнению экспертов, признать аффектом, но аффектом физиологическим, а не патологическим и, что хотя Линев не мог в полной мере руководить своим поведением, но не настолько, чтобы это исключало вменяемость.
Ко второму слушанию дела уже были вызваны в качестве экспертов психиатры: Внуков, Введенский Довбня, Терешкович, Тэриан. После четырехдневного рассмотрения дела, они, дали заключение о том, что состояние, в котором Линев находился в момент совершения преступления, следует, по мнению экспертов, признать аффектом, но аффектом физиологическим, а не патологическим и, что хотя Линев не мог в полной мере руководить своим поведением, но не настолько, чтобы это исключало вменяемость.
Для патологического аффекта характерным признаком является амнезия по отношению к обстоятельствам совершенного действия. В данном случае эксперты скептически отнеслись к заявлениям Линева о том, что он не помнит, как совершил самое преступление. Субъективными и недостаточными эксперты считают показания свидетеля, утверждавшего, что Линев после совершения преступления имел «сумасшедший вид». Напротив, осмысленные действия Линева после преступления, исключают, по мнению экспертов, предположение о наличности патологического изменения душевного состояния.
На суде между Линевым и Эпштейн был жестокий антагонизм, выражавшийся в резких выкриках со стороны Эпштейн.
Нужно сказать правду, Линев не пощадил на суде ни женской стыдливости, ни достоинства Эпштейн и совершенно простодушно рассказывал об их взаимоотношениях такие интимные подробности, что суд вынужден был закрыть двери и вопрос об их интимных отношениях слушать в отсутствии публики.
Здесь Линев рассказал с видом величайшего и, в то же время, наивного изумления, как-то по-детски разводя руками о том, какие откровения в области сексуальных отношений открыла ему близость с Эпштейн. «Никогда не думал», - говорил он, - что есть такое на свете. Шибко противно сначала было, а потом ничего, привык и даже нравиться стало». Возмущенная Эпштейн, присутствовавшая в зале, прерывала Линева исступленными криками: «Он лжет, подлец».
Она решительно отвергала также утверждение Линева о том, что в промежутке между двумя процессами они проводили ночи на даче, но после показания няни вынуждена была признать это обстоятельство, объясняя это своей уступчивостью из страха перед возможностью мести со стороны Линева.


 Несмотря на такую, казалось бы, величайшую враждебность отношений, в кулуарах суда уже очень скоро стало известно, что Эпштейн и здесь все же продолжает заботиться о Линеве, ежедневно покупает для него в буфете обед и даже успела шепнуть ему при отводе его в комендатуру, чтобы он не сердился на нее, что она любит его и вынуждена отрицать многие факты, иначе положение ее будет невыносимым.
Несмотря на такую, казалось бы, величайшую враждебность отношений, в кулуарах суда уже очень скоро стало известно, что Эпштейн и здесь все же продолжает заботиться о Линеве, ежедневно покупает для него в буфете обед и даже успела шепнуть ему при отводе его в комендатуру, чтобы он не сердился на нее, что она любит его и вынуждена отрицать многие факты, иначе положение ее будет невыносимым.
Губернский суд согласился с экспертами, давшими заключение при втором слушании дела о вменяемости Линева, и признал его подлежащим мерам социальной защиты.
Но при этом суд, подробно изложивший в приговоре все фазы отношений между Линевым и Эпштейн, в резолютивной части приговора отметил следующее:
«Вследствие изложенного, действия Линева, как нанесшего Эпштейн тяжкое телесное повреждение под влиянием сильного душевного волнения, вызванного изложенными выше тяжелыми оскорблениями его в отношениях к нему со стороны потерпевшей как ранее, так и в момент совершения им преступления, предусмотрены и наказуемы по ст. 151 УК».
Обвинение, предъявленное Линеву, по 1 ч. 149 ст. УК, считать по суду недоказанным.
На основании всего вышеизложенного, считая, что хотя преступные действия, совершенные Линевым, явились результатом отношений к нему Эпштейн, что осознавая свой поступок Линев не требует чрезмерно длительной изоляции от общества, но что он, как представляющий в настоящее время социальную опасность, должен быть возвращен в ряды трудящихся по прохождении срока трудового воздействия, - Губсуд приговорил Линева подвергнуть на основании ст. 151 УК лишению свободы, в исправительно-трудовом доме сроком на один год».
Несколько дней тому назад ко мне позвонили по телефону.
«Это я, Линев», - послышался знакомый голос, - «хочу придти к вам, нужно поговорить».
Через 20 минут в кабинет ко мне вошел веселый и улыбающийся Линев, как оказалось, уже досрочно освобожденный из заключения.
«Ну, поздравьте меня, - радостно заявил он, - сын у меня вчера родился; ну прямо необыкновенный - 11-ти фунтов весом и весь в меня».
«От кого», с величайшим изумлением спросил я.
«Да от нее, от Эпштейн», - ответил Линев. «Ведь мы теперь семьей зажили, душа в душу живем; о прежнем слово друг другу дали не вспоминать. И вот, родила мне сына. Теперь я и ее и мальчика без памяти люблю».
«Когда же вы успели, ведь вы недавно только освобождены?»
«Эге-ге, - добродушно рассмеялся Линев, - а про ночевку на даче в промежутке между двумя судами забыли?»
____________________
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОКУРОРА
Это был загадочный случай.
Прокурор одного из районов гор. Москвы, старый испытанный революционер, коммунист, тихий и скромный в жизни и твердый как прокурор, неожиданно скрылся из города.
Он бросил на произвол судьбы камеру, дела и целый ряд ответственных обязанностей; скрылся не сообщив ни слова ни своему начальству, ни ближайшим своим товарищам по службе и по партии. Жена его, жившая под Москвой, на расспросы следственной власти утверждала, что она не знает, куда скрылся муж и чем объяснить его исчезновение.
Вскоре после исчезновения Топоркова (назовем так прокурора)[2] в ГПУ поступило заявление от двух 


 студентов грузин о том, что бежавший прокурор Топорков брал взятки от проходивших через его камеру заявителей за изменение меры пресечения. Взятки, по словам заявителей, брались Топорковым через его приятеля, жившего совместно с ним на даче под Москвой, Воронова.
студентов грузин о том, что бежавший прокурор Топорков брал взятки от проходивших через его камеру заявителей за изменение меры пресечения. Взятки, по словам заявителей, брались Топорковым через его приятеля, жившего совместно с ним на даче под Москвой, Воронова.
Началось дознание, давшее действительно богатый материал, изобличавший Воронова в том, что он брал у ряда лиц, привлеченных к суду, деньги для передачи Топоркову за изменение меры пресечения.
Сам Воронов на дознании сознался, что передал полтора миллиарда рублей дензнаками 1923 года прокурору Топоркову. Некоторые из лиц, дававших Воронову деньги, были действительно освобождены, другие же, как например, некто Шарвадзе Григорий, остались и после дачи ими взятки под стражей.
Через некоторое время по перехваченному письму установлено было местопребывание Топоркова.
Оказалось, что он после побега из Москвы очутился в Кронштадте, где поступил по подложному документу под чужой фамилией на службу в качестве следователя в Военный трибунал Балтфлота.
Топорков был привезен в Москву, где ему было предъявлено обвинение во взяточничестве; он целиком отрицал свою вину, но не дал, с точки зрения следствия, правдоподобных объяснений по поводу своего исчезновения из Москвы.
Дело это разбиралось в Московском губсуде 12, 13 и 14 февраля 1924 года.
Кроме Топоркова и Воронова суду были преданы еще трое: Шарвадзе, Вуховадзе и Никитина, самогонщики, обвинявшиеся в передаче через Воронова взяток Топоркову.
Установленные на суде факты действительной передачи подсудимыми денег Воронову, близость Воронова к Топоркову, не отрицавшаяся последним, оговор на дознании Вороновым Топоркова, наконец, тяжелая улика - побег Топоркова, как тогда предполагалось, из страха перед арестом, - убедили суд в безусловной виновности Топоркова во взяточничестве.
Он был приговорен к расстрелу, при чем суд постановил возбудить ходатайство о смягчении наказания в виду революционных заслуг приговоренного. Воронов также был приговорен к расстрелу, а трое остальных подсудимых - к разным срокам наказания.
Приговор этот Кассационной Коллегией Верховного Суда был отменен, а дело передано на новое рассмотрение.
 Ко второму рассмотрению дела я был назначен Топоркову защитником.
Ко второму рассмотрению дела я был назначен Топоркову защитником.
В Бутырском домзаке я нашел высокого хмурого человека, полуинтиллегента по виду, с тусклым взглядом глубоко впавших глаз, смотревших, однако, прямо и искренно. Было, что-то в этом человеке, что внушало к себе глубокую симпатию и доверие.
Худой и бледный, бесконечно, по-видимому, потрясенный так трагически окончившимся для него первым судом, он не сразу отвечал на мои вопросы.
Устало опустив голову, он долго сидел и молчал. Я дал ему возможность заговорить самому.
«Я знаю, что мне трудно поверить», очень тихо, с какой то глубокой задушевностью начал он свое объяснение. «Я знаю, что обстоятельства против меня. Побег, который я совершил, недостоин коммуниста. Дружба с проходимцем Вороновым создала внешние факты, против которых мне трудно бороться, но верьте, я никогда за всю мою жизнь сознательно не сделал ни одного бесчестного поступка. Я не брал взяток, я не имел никакого представления о деятельности Воронова за моей спиной. Этот гад влез мне в душу, прикинулся другом, виноваты моя бесхарактерность и безвольность, вследствие которых я не выгнал его, но я не подозревал, что он способен на такие ужасные вещи».
«Но чем же объяснить ваш побег», - спросил я его.
«На это мне трудно ответить, - сказал Топорков. Я пытался сам себе объяснить это в записках, которые я вел тогда. Они отобраны у меня при аресте. Прочтите их, может быть, вы разберетесь, но поверьте, я бежал не из страха перед наказанием. Как революционер, я десятки раз стоял перед опасностью для жизни и смотрел этой опасности прямо в глаза. Я думаю, что я бежал от самого себя».
Я долго говорил с Топорковым, коснулся каждой мелкой детали в деле и у меня создалась глубочайшая уверенность, что в этом деле едва не произошла судебная ошибка.
Топорков был невинен - это я почувствовал с первого же свидания с ним, изучение же его записок и биографии, имевшейся при деле, а также всех показаний Воронова окончательно укрепили мою уверенность
Отчего же бежал Топорков? Топорков, как он с самого начала мне показался и, каквпоследствии я убедился по документам в деле 

 и биографическим сведениям, это своеобразный тип революционера, стойкого, мужественного во всем, что касается исполнения его долга, твердого и беспощадного, когда речь идет о прямых революционных действиях, но застенчивого и мягкого в личной жизни.
и биографическим сведениям, это своеобразный тип революционера, стойкого, мужественного во всем, что касается исполнения его долга, твердого и беспощадного, когда речь идет о прямых революционных действиях, но застенчивого и мягкого в личной жизни.
Находчивый и сообразительный в самых запутанных служебных и деловых взаимоотношениях, он когда вопрос связан с его личными интересами, частными отношениями его с людьми и в своей интимной жизни, - безвольный и слабый, легко теряющийся и бесконечно скромный человек.
Прошлое Топоркова не лишено глубокого интереса.
Сын сторожа, выросший в деревне, с раннего детства предоставленный самому себе, впечатлительный мальчик, Топорков склонен к энтузиазму и мистическим настроениям. Чуть ли не до 15 лет, живя в деревушке среди лесов, он отличается нелюдимым характером, бродит по лесам, и увлеченный своеобразной жизнью монахов, уединенных по скитам, весь исполнен религиозного мистицизма, носит власяницу, вериги, колючий железный пояс на голом теле, наказывает себя за каждую «грешную» мысль.
В юношеские годы он попадает в город, служит мальчиком в мелких предприятиях, случайно сталкивается с передовыми студентами и мистицизм юности уступает место революционным настроениям, воспринятым от них.
Он сближается с партийной молодежью и начинает гореть огнем революционного энтузиазма.
Еще совсем мальчиком вступает в партию социал-революционеров, участвует в экспроприации оружия на Сретенке, в магазине Биткова, в «эксе» купцов у «Яра» и у «Стрельны», убивает охранника Суворова, в 1905 г. дерется на баррикадах.
В партии эсеров он пребывает вплоть до начала Октябрьской революции.
Благодаря содействию, оказанному товарищами по партии, он подготавливается в Строгоновское училище зодчества и ваяния и октябрьский вихрь застает его в студенческих организациях, образовавшихся в этом учебном заведении.
Он вступает в РКП, занимает за период гражданской войны, а потом мирного строительства, ряд разнообразнейших военных и иных ответственных должностей.
Товарищи по партии, прошедшие на суде и охарактеризовавшие его за этот период времени, отмечали, что ни одного пятнышка не было на репутации Топоркова. Аскет по натуре, скромный и молчаливый 



 человек, он с честью нес свой долг, где бы таковой выполнять ни приходилось.
человек, он с честью нес свой долг, где бы таковой выполнять ни приходилось.
В автобиографии, приобщенной к делу, Топорков подробно рассказывает, просто и безыскусственно, все перипетии своей жизни революционера. В записях, относящихся ко времени побега, он пытается объяснить причины его, объяснить, по-видимому, для самого себя.
В этих записях мое внимание остановил один факт.
Однажды, много лет до того, Топорков, находясь в обществе товарищей, спровоцированный одной кокетливой девушкой, неожиданно для самого себя поцеловал ее. Раздался всеобщий смех. Топорков, имевший уже боевое революционное прошлое, проявлявший в «эксах» большую выдержку и спокойствие, вдруг растерялся до последней степени.
С ним происходит что-то странное.
Он не в силах оставаться среди людей, где произошел с ним, казалось бы, такой невинный случай. Он бежит из квартиры, потом в тот же день и из города, бросая дело, с которым был связан, не предупредив никого из близких, не имея, по его словам, сил вернуться к тем же самым людям.
Уход в самого себя, склонность к самосозерцанию характерны для Топоркова, хотя, с другой стороны, по его боевому стажу его никак нельзя отнести к типу «интеллигентных нытиков».
Все эти колебания настроения, характерные» по-видимому, для его своеобразной психики, проявляются не только в его дневниках и письмах. Жизнь его отмечена двумя покушениями на самоубийство, казалось бы, без достаточно серьезных поводов.
Последняя должность у Топоркова перед назначением его в прокуратуру была служба в НКРКИ, где уже начинают отмечаться первые признаки усталости.
Топорков отмечает в своей автобиографии: «С некоторых пор я стал замечать ненормальности за собою, специфические явления переутомления, издерганности, порою полное безразличие, слабосилие телесное и духовное. Сначала я искал выхода в том, чтобы уйти на производственную работу, но и там не нашел успокоения. Назначенный прокурором на работу, мне чуждую до этого, я как-то обессилел под давлением огромного ряда ответственных и своеобразных обязанностей. Уже вскоре я просил освободить меня, но просьба моя удовлетворена не была».
В своем письменном объяснении и на суде Топорков подробно рассказал, как Воронов, который представлялся ему простым и хорошим парнем, что 



 называется «рубаха парень», втерся в его общество и, живя совместно с ним в одной местности на даче, постоянно заходил к нему в камеру по окончании занятий, чтобы вместе ехать домой.
называется «рубаха парень», втерся в его общество и, живя совместно с ним в одной местности на даче, постоянно заходил к нему в камеру по окончании занятий, чтобы вместе ехать домой.
Топоркову в голову не приходило, что эту свою внешнюю близость к нему Воронов использует в своих корыстных целях. Между тем, предварительное и судебное следствие подробно выявило картину мошеннического поведения Воронова.
Незаметно для Топоркова Воронов афишировал перед окружающими свою близость к прокурору, заходя к нему прямо без доклада, вне очереди в кабинет, чем укрепил у всех окружающих представление о том, что он близкий друг и приятель прокурора.
Постоянно бывая в камере прокуратуры, Воронов узнавал у канцелярских сотрудников, относившихся вначале к нему, как к близкому приятелю прокурора, с доверием, о делах, проходивших через камеру.
Наблюдая во время приемов у прокурора, как многие лица обращались к нему с просьбами об изменении меры пресечения по отношению к их родственникам, он постепенно знакомясь с ними, стал предлагать, ссылаясь на близость к прокурору, свои услуги по оказанию им содействия в освобождении арестованных. Чтобы еще больше уверить родственников арестованных в интимной дружбе с прокурором, он стал на их глазах запросто заходить в кабинет к Топоркову, выходить оттуда с ним вместе под руку, бродить по канцелярии с видом своего человека.
Родственники, среди которых были некто Шарвадзе и Вуховадзе, уверовали в могущество Воронова и в его близость к прокурору. Воронов получает от Шарвадзе первую взятку в сумме 1 миллиарда рублей дензнаками 1923 года, якобы, для передачи прокурору за освобождение его брата, арестованного за торговлю спиртом. Получает он еще деньги от некоей Сорокиной, сын которой также содержится под стражей по делу о торговле самогоном и, наконец, деньги от некоего Никитина.
Два последних арестованных действительно освобождаются Топорковым из под стражи, как впоследствии оказалось, в полном соответствии с обстоятельствами дела, но брата Шарвадзе Топорков не освобождает.
Шарвадзе, не добившись освобождения своего брата, неоднократно заходит в прокуратуру и ищет скрывающегося от него Воронова, обещавшего передать его деньги немедленно прокурору ради освобождения 



 арестованного, но Воронова найти нигде не может, ибо тот деньги успел прокутить и опасается встретиться с Шарвадзе.
арестованного, но Воронова найти нигде не может, ибо тот деньги успел прокутить и опасается встретиться с Шарвадзе.
13 февраля, возмущенный надувательством Воронова и как полагал Шарвадзе, и Топоркова, Шарвадзе является в камеру прокурора и требует от сотрудников канцелярии, а затем и непосредственно от прокурора Топоркова, вышедшего на шум из кабинета, указать ему фамилию и адрес того молодого человека (Воронова), который часто бывает у прокурора.
Ему отказывают в этой просьбе и Шарвадзе, возмущенный, уходит, бросая фразу: «я сделаю так, что вам не будет смешно».
На другой день после этого случая Топорков скрывается из Москвы, не сдав дел и бросив камеру на произвол судьбы.
Почему же скрылся Топорков? Слухи о том, что прокурор Топорков берет взятки, благодаря дискредитирующим его, Топоркова, действиям Воронова, распространились среди лиц, близких к прокуратуре. О них давно уже знали сотрудники камеры, о них знала публика, наполнявшая в приемные дни прокуратуру, о них говорили открыто в коридорах и шепотом сотрудники, и, наконец, эти слухи достигли самого Топоркова.
Он подозревал, что в основе своей эти слухи питаются близостью его отношений с Вороновым; он чувствовал за своей спиной шепот, он видел настороженные взгляды, в нем росло и укреплялось беспокойство, но не было решимости поступить определенно, как этого требовало положение, арестовать Воронова и официально выяснить источник слухов.
Случай с приходом грузина и брошенная им фраза сразу открыли ему все.
Он понял, что он опозорен в глазах окружающих, что его считают взяточником, но поступить так, как этого требовало положение, он был не в силах.
В дневнике Топоркова, который он вел в этот промежуток времени, имеются по этому поводу следующие места:
«Что случилось. - Возникли слухи, позорные для общественного работника. Ликвидировать их нужно было... Как. - Если расследовать и установить клевету, наказать виновников, то все же остается темное пятно. Клевету можно смыть лишь собственной кровью или исчезнуть, быть забытым...»



 «Опровергнуть клевету официально еще не значит снять позор с честью с доброго имени. Яд ее отравляет душу. Это язва, незаметная снаружи, но подтачивающая организм внутри».
«Опровергнуть клевету официально еще не значит снять позор с честью с доброго имени. Яд ее отравляет душу. Это язва, незаметная снаружи, но подтачивающая организм внутри».
«Ожидание неизвестности страшнее самой катастрофы. Неожиданный удар поразит и измучит, но очнешься, успокоишься и находишь возможность снова жить. Тут же полная неизвестность, ожидание неминуемого события, таинственного, грозного...»
«Конечно, предстояла моральная смерть, но какая! - Какая пытка, мучения, нравственные страдания... Ожидание этих ужасов страшнее смерти. Душа моя может страдать до известных пределов, страдать же беспрерывно, задавать себе каждый вечер вопрос - что ожидает, - это все равно, что претерпевать тысячу смертей. А страх, страх, от которого стынет в жилах кровь и щемит душу, страх который невидимым призраком овладевает всеми помыслами, трепещущими и колеблющимися... Сердце сильно билось при мысли о семье. Я не спал ночами, только наружно старался показать равновесие и спокойствие».
В другом месте он говорит: «Я никогда не думал о себе и не допускал мысли быть серьезно оклеветанным и попасть в тяжелое безвыходное положение. Когда же в силу сложившихся обстоятельств в связи с необходимостью защищаться я потерял спокойствие, даже, как мне кажется, рассудок. Ведь я же был почтенный человек, общественный и партийный деятель. Мог ли я помириться с мыслью, что мне придется держать экзамен на подлеца. А скандал был неизбежен. Я чувствовал себя беспомощным, видел гибель чести своей и доброго имени, я видел моральную смерть от удушения клеветой...».
«Если даже я добьюсь блестящего опровержения всех наветов, то наступит тоже моральная смерть, но от другой причины, от излишнего вдыхания кислорода радости официальной, но не морального торжества, потому что я все же не могу не чувствовать возможность кривотолков, которых ничем, даже и официальными данными не убьешь».
Записки эти были отобраны у Топоркова при аресте его в Ленинграде.
Прочитав их и сопоставив их содержание с объяснениями, которые мне давал Топорков, я невольно пришел к внутреннему выводу о том, что Топорков не вполне нормальный человек и, что побег его был побегом не из страха наказания, не из страха перед изобличением вины, которой в действительности не 



 было, а единственно вследствие свойственной его натуре беспомощности в борьбе за самого себя, в своих личных интересах.
было, а единственно вследствие свойственной его натуре беспомощности в борьбе за самого себя, в своих личных интересах.
Я возбудил ходатайство перед судом о вызове эксперта-психиатра.
Проф. Е. К. Краснушкин, приглашенный судом, чрезвычайно заинтересовался личностью Топоркова и после подробного обследования его и участия в судебном следствии, дал о нем следующее заключение, которое привожу полностью.
«4 октября 1924 года, я освидетельствовал в судебном заседании Московского Губсуда гр. Топоркова Е. А., 36 лет, при чем оказалось следующее:
«Гр. Топорков правильного телосложения, с бледным малокровным кожным покровом. Со стороны нервной системы отмечаются живые коленные рефлексы, отсутствие глоточных рефлексов и конъюнктивальных рефлексов.
Топорков в ясном сознании, говорит логично, дает обдуманные ответы, обнаруживает достаточный умственный багаж. Никакого расстройства суждений в течение разбирательства и исследования не обнаруживает, но указывает на «провалы памяти, касающиеся в большинстве случаев обстоятельств его дела. Так он не помнит, как он уехал из Москвы в Ленинград. Однако, забвение не является сплошным, но касается только отдельных моментов этой поездки, Он не помнит, как провел день накануне отъезда, не помнит, как вышел из дома, но помнит себя на вокзале, помнит себя в вагоне; дальше опять провал в памяти; вспоминает себя уже в Ленинграде в самый день приезда, а дальше все уже в памяти сейчас восстанавливается.
Из письма за два дня до ареста и из экспертизы на суде ясно, что этому его состоянию предшествовали тяжелые внутренние переживания, которые правильнее всего охарактеризовать с аффективной стороны страхом и стыдом перед позором, возникшим под влиянием сплетшегося вокруг него клубка позорных обвинений. По-видимому, это состояние аффективного внутреннего напряжения продолжалось около 11/2 месяцев.
Аналогичное состояние он пережил однажды уже лет 18 тому назад, когда он поцеловал дочку своего квартирного хозяина на глазах у всех, бывших на вечеринке, и тут же уехал в Н. Новгород, где пробыл несколько недель. Тогда никаких припадков у Топоркова не было; бывали только обмороки, связанные с малокровием, бывали головокружения, тоже ничего характерного в себе не обнаруживавшие.





 Названное состояние развивается в замкнутом, вспыльчивом, способном к депрессиям при неблагоприятных внешних обстоятельствах, импульсивном характере подэкспертного.
Названное состояние развивается в замкнутом, вспыльчивом, способном к депрессиям при неблагоприятных внешних обстоятельствах, импульсивном характере подэкспертного.
Все изложенное позволяет заключить, что Топорков является психопатической личностью с аномальным характером, но не душевно-больным в тесном смысле этого слова. Аномалия характера, в частности, у Топоркова, не является таким состоянием, которое исключает вменяемость. В данном случае может идти речь только о частичной или, лучше сказать, временной невменяемости, связанной с провалами воспоминаний о некоторых действиях.
Однако, описываемое Топорковым состояние не укладывается в рамки известных психиатрии эпилептических или психиатрических трансов, ибо он большую часть поступков в этот период совершил в ясном сознании. На это указывают обстоятельства его поведения; не было характерных предвозвестников этих расстройств, не было и последующего характерного для них состояния удивления и корригирования совершённого.
Таким образом, отсутствие воспоминаний должно быть отнесено не к расстроенности сознания в смысле совершения указанных поступков, но к последующему истерическому вытеснению из сознания неприятных переживаний.
В силу этого я полагаю, что в момент совершения этих поступков Топорков был в резко аффективном состоянии, вполне адекватном создавшемуся в его жизни положению и, с