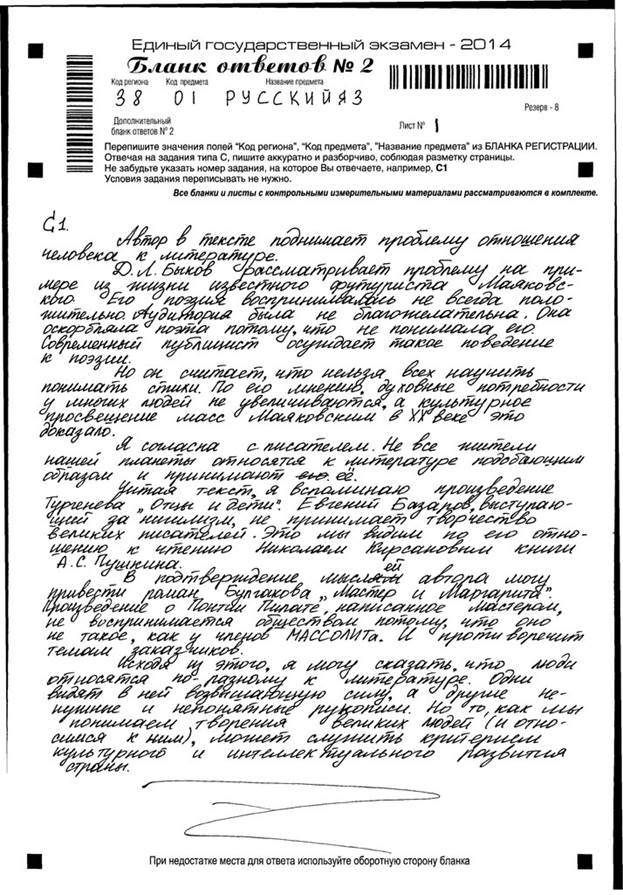Текст ЕГЭ-2014 и подлинное эссе Нестеровой Валерии
Аудитория, которую он собирал, далеко не всегда была благожелательна — и чем дальше, тем агрессивней; на вечерах начинается прямое хамство, беспрерывные вопросы о зарплате, упреки в «непонятности» и литературном хулиганстве — часто в тех же самых городах, где за год до того его принимали восторженно. Часть записок сохранилась в архиве Маяковского — всего он собрал порядка 20 000, думая написать публицистическую книгу «Универсальный ответ». Потом к этому замыслу охладел — поняв, видно, что дураков не убедишь, а публикация записок от умных будет выглядеть хвастовством; подобную книгу выпустил в 1929 году Михаил Зощенко — «Письма к писателю», — и горько в ней раскаивался, ибо получилось, что он собственного читателя выставил идиотом. Между тем цель у него была самая простая — показать, что его стиль не выдумка, что новая страна в самом деле так говорит и пишет. То ли Маяковскому не захотелось повторять зощенковский ход, то ли публикация записок в самом деле шла бы в разрез с его любимой мыслью о том, что аудитория культурно растет: духовные потребности должны якобы увеличиваться по мере удовлетворения материальных... Но то, о чем его спрашивают в конце двадцатых, уже не просто глупо, а оскорбительно: «А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» — «Что вы хотели сказать тем, что выступаете без пиджака?». И отвечать остроумно на этот бред уже попросту невозможно — как известно, трудней и бессмысленней всего доказывать очевидное. Секретарь Маяковского однажды решил подслушать, что говорят расходящиеся зрители. Говорят в основном три вещи: 1) «Ну и голосина!» 2) «Какой нахал!» 3) «Чешет-то, чешет — без запинки!». Маяк хмуро выслушал, бросил: «Ладно. Ругня — это шлак. Главное, что ходят, слушают, думают». Но эстрада коварна именно тем, что ходить-то они ходят, а вот серьезное — действительно заставляющее думать и расти — им не очень-то прочтешь, зал заскучает, да и не всякую поэзию поймешь со слуха. Со временем выступления из любимого заработка и лучшего способа проверки новых текстов превратились в пытку, и Маяковский начал отказываться от приглашений, чего раньше почти не бывало; однако двадцать седьмой — пик его гастрольной активности. В 1927 уже казалось, что дома Маяковский бывает только случайно, а настоящее его рабочее место — железнодорожный вагон. И точно — в Москве он теперь появляется эпизодически. В январе Луначарский выдает ему командировочное удостоверение — для лекций в Поволжье, Закавказье и на Кавказе. Лекционный календарь Маяковского поражает воображение.Понятно бы еще, если бы из чистой корысти, — но большая часть или, по крайней мере, половина этих выступлений происходят совершенно бесплатно, ради культурного просвещения масс. В чем смысл этой лихорадочной активности? Не думает же он в самом деле, что научит всех поголовно слушателей понимать стихи? Да и что ему толку от их понимания — неужели это приблизит их к идеальному советскому гражданину? Может, идеальному-то гражданину и не нужны никакие стихи? И весьма возможно, что именно в этих поездках Маяковский бессознательно ищет ответа — а вдруг не тупик, а вдруг Москва еще не вся страна и вокруг нее все иначе? Вдруг где-то есть прекрасная молодежь и настоящий читатель? Ужасно видеть, что до этого читателя — который действительно есть и ходит на его вечера — попросту еще не добралось то, что уже так заметно в Москве: разочарование, озлобленность, скука. Дело не только в том, что поголовное омещанивание превращает Маяковского в объект насмешек, в мастодонта из прежней эпохи