Попытка новой интерпретации
Андреа Грациози
Его же. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. 96 с.
СОВЕТСКИЙ ГОЛОД И УКРАИНСКИЙ ГОЛОДОМОР
Оп.: Отечественные записки, 2007 г., №1. www.strana-oz.ru
См. Украина. Библиография.
См. также Безансон о Г., 2008. Грицак, 2009. Мемуар Старова ("Долот").
Щептицкого воззвание о Г., 1933.
Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал? Украинская пресс-группа, 2007. 207 с.
См. документы: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/doccatalog/list?currDir=49780
Профессор истории Неапольского университета имени Федерико II. Начиная с 1993 года руководит совместно с Олегом Хлевнюком серией «Документы советской истории», публикуемой издательством «Росспэн» и насчитывающей к настоящему времени 14 томов. Автор книг: «Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 годы. Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских движениях» (1997), «Война и революция в Европе, 1905–1956» (2005)
«Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа,организатора голода...» [2]
Письмо бывшего советского посла в Болгарии Ф. Раскольникова Сталину от 17 августа 1939 года
Открытие
С конца 1932 до лета 1933 года голод в Советском Союзе унес в семь раз больше жизней, чем Большой Террор 1937–1938 годов, хотя длительность его была в два с лишним раза короче. Начиная с 1931 года голод в Советском Союзе случался неоднократно, однако именно эти несколько месяцев оказались самым страшным испытанием и самым значительным явлением довоенной советской истории. Результатом голода 1932–1933 годов стала гибель пяти миллионов человек (в это число не входят те сотни тысяч, а возможно, целый миллион жертв, что погибли в Казахстане и в других регионах Советского Союза начиная с 1931 года); ни до войны (в 1921–1922 годах), ни после (в 1946–1947-м) количество погибших не было так велико (оно не превышало двух миллионов); политические, психологические и демографические последствия голода 1932–1933 годов сказываются на постсоветском пространстве и по сей день. Кроме того, он существенно повлиял на жизнь тех стран, где живут общины иммигрантов, покинувших российскую империю и Советский Союз; историческое и политическое значение этой трагедии по-прежнему очень велико. Так, на Украине начиная с 1987–1988 годов новое открытие и истолкование событий 1932–1933 годов оказало решающее воздействие на размежевание между сторонниками демократизации и поклонниками старых порядков. «Голодомор» (новый термин, изобретенный для обозначения намеренного массового уничтожения людей с помощью голода) [3] оказался в центре политической и культурной жизни, стал предметом обсуждения и крауегольным камнем в процессе построения нового государства и создания новой национальной идентичности. В мае 2003 года украинский парламент официально провозгласил голод 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.
Тем не менее до 1986 года, когда Роберт Конквест опубликовал свою книгу «Скорбная жатва» [4] , историки практически игнорировали это событие чрезвычайной важности. И дело не в отсутствии информации, поскольку, как я убедился, знакомясь с донесениями итальянских дипломатов эпохи Муссолини, сведения о голоде вовсе не были тайной для Запада. ХХ век стал эпохой, когда огромные массы людей меняли место жительства вследствие насильственных или спровоцированных миграций, переселений и проч.; события эти оставили след в дипломатических донесениях, путевых заметках, воспоминаниях свидетелей и жертв; так что говоривших было немало, вопрос лишь в том, что должны были найтись люди, способные услышать [5] .
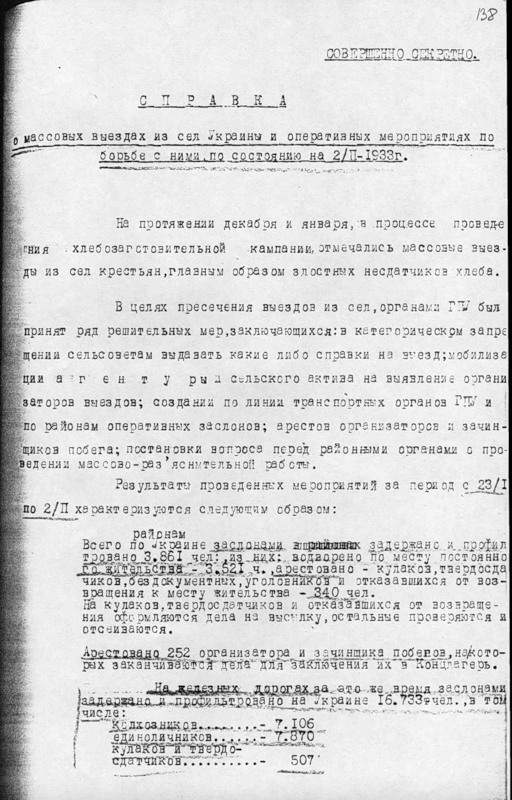
Учитывая все это, нельзя не поразиться тому, как мало до середины 1980-х годов знали о голоде и как мало интереса к этим событиям проявляли [6] . В лучшем случае историки — например, Наум Ясный и Алек Ноув — упоминалиискусственно организованный голод (впрочем, говоря о нем так, как если бы везде в СССР он носил один и тот же характер), но не исследовали его сколько-нибудь подробно и пренебрегали национальным аспектом проблемы (голодом как фактом истории украинского, казахского и прочих народов). Несколькими годами позже Мойше Левин реконструировал механизмы, с помощью которых голод был организован, но сам голод подробно изучать не стал [7] . Все это, повторяю, в лучшем случае, а в худшем голод становился предметом достойных сожаления, чтобы не сказать позорных, споров, в ходе которого его масштабы преуменьшались, а порой даже отрицалась сама реальность этого события. В Советском Союзе, где даже после 1956 года историкам было позволено вести речь разве что о «продовольственных трудностях», само употребление слова «голод» применительно к событиям тех лет было запрещено. На Украине это слово впервые прозвучало официально в речи первого секретаря украинской коммунистической партии Щербицкого во время празднования 70-летия республики в декабре 1987 года [8] .
Вот почему совместный проект Гарвардского Института украинских исследований, Ричарда Конквеста и Джеймса Мейса [9] , плодом которого и стала книга Конквеста, имел исключительно важное значение: Конквест заставил историков посмотреть наконец правде в глаза и задуматься о серьезнейшей проблеме, причем подчеркнул связь между голодом и национальным вопросом, а также указал — совершенно справедливо — на необходимость рассматривать голод в Казахстане отдельно от голода на Украине. Поэтому позволительно утверждать, что историография голодных лет вообще и «голодомора» в частности начинается именно с его книги (хотя такие авторы, как Максудов или Жорес Медведев, серьезно изучали этот вопрос еще до Конквеста [10] ). Это становится особенно ясно, если вспомнить споры, разгоревшиеся вокруг работы Конквеста; споры эти были ожесточенными, но уровень дискуссии оказался гораздо более высоким, чем прежде, а главное, обсуждение «голода» помогло историкам осознать чрезвычайный масштаб этих событий. Процесс этот был и, возможно, остается весьма болезненным, потому что «коллективная память» об этой эпохе сформировалась в то время, когда вспоминать о голоде было запрещено, и пересмотр сложившихся суждений дается очень нелегко. Советская система последовательно скрывала от граждан факты прошлого, да и для всего европейского ХХ века, на мой взгляд, характерно стремление к «сглаживанию шероховатостей» истории, приводившее к массовой слепоте. Поэтому задача историков заключалась и до сих пор заключается в том, чтобы включитьсведения о советском голоде в наши представления о прошлом, а для этого необходимо, как это ни тяжело, отказаться от образов и представлений, которые распространены очень широко, но от этого не становятся более достоверными.
Попытка новой интерпретации
Архивная и историографическая революция 1991 года позволила очень быстро накопить новые знания и перевести дискуссию на качественно новую ступень, так что отныне обсуждение голода, за вычетом нескольких прискорбных исключений, носило уже серьезный научный характер. В обоих лагерях, на которые — разумеется, достаточно схематично и условно — можно разделить историков, изучающих историю голода, трудятся люди, одушевляемые настоящим исследовательским духом и сознающие глубину трагедии, которую они пытаются постичь. За последнее десятилетие историки усвоили и отчасти углубили выводы Конквеста, и это дает основание оценивать развитие исторической науки оптимистически.
Что же касается тех двух лагерей, которые я только что упомянул, то, опираясь на письмо, полученное мною от талантливого молодого украинского историка Валерия Васильева, я бы определил их позиции следующим образом: одни историки — назовем их историками категории А — называют голод 1932–1933 годов геноцидом и считают, что он был устроен искусственно с целью а) сломать хребет крестьянству и/или б) подточить или даже вовсе уничтожить жизнеспособность украинской нации, мешавшей превращению Советского Союза в деспотическую империю. Другие историки — назовем их историками категории Б — соглашаются с тем, что сталинская политика была преступна, но настаивают на необходимости изучать голод как «сложное явление» и не забывать о том, что на намерения и решения Москвы повлиял целый ряд факторов, включая геополитическую ситуацию и стремление к модернизации экономики [11] .
На мой взгляд, сегодня мы обладаем запасом сведений, позволяющим предложить новую, более удовлетворительную интерпретативную гипотезу, которая учитывала бы и общесоветский контекст, и значение национального вопроса [12] . Ее можно построить на основе превосходных работ, опубликованных в последние годы украинскими, русскими и западными историками, и тем самым разрушить ту стену, которая до сих пор в той или иной степени разделяет этих исследователей.
Я попытаюсь очертить контуры этой новой интерпретации, используя разыскания таких именитых историков, как Данилов, Д’Анн Пеннер и Кондрашин, Девис и Уайткрофт, Ивницкий, Кульчицкий, Мейс, Мартин, Меле и Валлен, Шаповал, Васильев [13] , а также Олег Хлевнюк, чьи работы о Сталине, хотя и не посвящены непосредственно голоду, дают превосходное представление о том политическом контексте, в каком разворачивались события 1932–1933 годов на Украине [14] .
Надеюсь, что моя гипотеза поможет не только лучше понять сам феномен «Великого голода» (общее название всех эпизодов 1931–1933 годов, связанных с массовым голодом), но и вызовет дискуссию, благодаря которой рухнет та по-прежнему высокая и прочная стена, которая до сих пор отделяет исследователей голода от историков европейского ХХ столетия — столетия, которое просто невозможно ни понять, ни оценить, если не признать голод на Украине неотъемлемой частью его истории.
Прежде чем сформулировать эту гипотезу, необходимо точнее определить предмет разговора. По-видимому, сейчас уже очевидно, что применительно к советской истории правильнее говорить не о голоде, а о разных случаях голода в 1931–1933 годах; эти случаи имели, разумеется, общие причины и схожий контекст, однако две самых страшных трагедии имеют очень много существенных различий: голод в Казахстане и обусловленные им эпидемии 1931–1933 годов — явление иной природы, нежели голодомор на Украине и на Кубани (в Северо-Кавказском крае, входившем в состав РСФСР, но в ту пору населенном преимущественно украинцами), длившийся с конца 1932 до начала 1933 года.
Многие ошибки в интерпретациях, допущенные в прошедшие годы, объясняются именно неразличением этих двух национальных трагедий и более общего контекста, в котором они разворачивались. Поясняю свою мысль примером: это все равно как если бы историки нацизма не отличали нацистские репрессии в целом от отдельных очень страшных преступлений, таких как истребление советских военнопленных или массовое уничтожение поляков и цыган, не говоря уже о холокосте — явлении исключительном, которое не может рассматриваться просто как одно из многочисленных нацистских зверств, хотя, разумеется, принадлежит к их числу. В общем, поскольку имели место как нацистские репрессии в целом, так и эти отдельные, «специфические» трагедии, следует, как это обычно и делается, принимать в расчет оба эти уровня, изучать как отдельные явления сами по себе, так и их взаимосвязь и место в общей системе.
Сходным образом и в интересующем нас случае полезно провести четкое различие между феноменом в целом и его конкретными проявлениями в разных республиках и регионах. Однако на практике большая часть историков, принадлежащих к категории А, ограничивается изучением голодомора, тогда как многочисленные представители категории Б исследуют исключительно ситуацию в масштабе всего Советского Союза. Если мы в самом деле проведем четкое различие между общей ситуацией и отдельными случаями, то увидим, что большинство исследователей — хотя, разумеется, и не все — правы, но каждый применительно к своему объекту.
Следующий шаг, который необходимо сделать, — провести еще одно разграничение, а именно отделить «стихийный» голод 1931–1932 года (стихийный в кавычках, потому что голод этот, хотя был неожиданным и незапрограммированным, безусловно явился следствием политических мер 1928–1929 годов) от того голода, который наступил после сентября 1932 года и который был результатом вполне сознательных человеческих решений (события в Казахстане развивались в основном по иному сценарию, и я буду касаться их мимоходом, только при крайней необходимости, а читателей отсылаю к недавним работам, в которых эта тема освещена, на мой взгляд, вполне удовлетворительно) [15] .
Наконец, третий шаг, который нужно сделать, заключается в том, чтобы принять самые убедительные тезисы гипотез А и Б, а неудовлетворительные их элементы отбросить.
Например, исследования, принадлежащие к категории А, справедливо привлекают наше внимание к важности национального вопроса. Всякий, кто изучает историю Советского Союза, должен осознавать значение этого вопроса, как осознавали его и Ленин, и Сталин (не случайно первый решил не называть новое государство Россией, а второй, хотя вначале оспаривал это решение, тем не менее не стал впоследствии его пересматривать). Следует также осознать, что острее всего национальные проблемы ощущались именно на Украине. Не раз было совершенно справедливо замечено, что после 1917 года Украина играла в Советском Союзе ту роль, какая в царской империи отводилась Польше: в конце 1919 года Ленин наметил поворот к политике коренизации [16] , которая прежде считалась частью более радикальных националистических теорий; поворот этот явился следствием размышлений Ленина о причинах поражения большевиков на Украине весной и летом 1919 года [17] ; что же касается Сталина, то он придалкоренизации новое направление в конце 1932 года именно в связи с украинским кризисом. Но на Украине, по крайней мере до 1933 года, национальный вопрос был вопросом крестьянским, и это осознавали и Ленин, и Сталин.
Однако по причинам, которые станут яснее чуть позже, сторонники гипотезы А ошибаются, когда утверждают, что «голод», включая голод в масштабе всего Советского Союза, был организован («спланирован») еще до осени 1932 года ради того, чтобы решить украинскую национальную и/или крестьянскую проблему.
Со своей стороны, исследователи категории Б предлагают очень ценную и подробную реконструкцию общего контекста и указывают причины возникновения голода в масштабе всей страны; они избегают упрощений и способны убедительно опровергнуть гипотезу А, во всяком случае, ее самые примитивные варианты. Но зато они, сколько можно судить, не способны оценить важность национального фактора и уделить ему внимание в своих исследованиях, иначе говоря, не способны «спуститься» с уровня Союза на уровень отдельных республик. Кроме того, эти историки, по-видимому, не вполне осознают, что Сталин, даже если он не был организатором каких-то событий, всегда был готов воспользоваться явлениями «стихийными», придать им новое направление и поставить их себе на службу. Самый наглядный пример — убийство Кирова: может быть, Сталин его и не организовал, но зато бесспорно, что он сумел извлечь из него выгоду самым «творческим» образом.
Таким образом, можно опираться на серьезные исследования категории Б, посвященные развитию кризиса в СССР, но при этом иметь в виду, что и на уровне всего Союза Сталин в определенный момент решил использовать голод для того, чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации. По целому ряду причин сопротивление это вообще было более упорным в нерусских регионах, где события очень скоро начали развиваться по несхожим сценариям. Реконструируя эти сценарии, можно прорвать ту завесу таинственности, которая с самого начала окутывала события 1932–1933 годов, хотя для большевистской элиты — о чем свидетельствует письмо Раскольникова — они никакой тайны не составляли.