Февраля — день произвольной программы 1 страница
Часть первая
Художник Алексей Пашков
Загайнов P.M.
3 14 Ради чего? Записки спортивного психолога. — М.: Совершенно секретно, 2005. — 256 с.
Знаменитый психолог Р. Загайнов 35 лет помогает спортсменам преодолеть стресс, выжить, победить или справиться с поражением.
Завороженные красотой, звуками фанфар и треском фейерверков, мы смотрим Олимпиады, соревнования, первенства и матчи.
Спорт. Пластика совершенства. Азарт. Фарт.
Люди спорта, спортсмены. Запредельные нагрузки. Сила духа. Смертельные срывы. Страх поражения. Цена победы — жизнь и судьба.
Но и любой человек тоже находится «на дистанции». По сути, у каждого своя беговая дорожка, ледовая арена и шахматная партия. Все на пределе. Этой книгой опытный психолог помогает и всем нам.
ISBN 5-89048-145-2 УДК 316
ББК 75.0
ООО «Совершенно секретно», 2005
— Ой, как Вы поседели! —
первое, что услышал я на родной земле.
Олимпиада, олимпиада... Что даешь и что отнимаешь ты? Сверхнапряжение и сверхответственность, пронизывающий всё твое существо страх поражения, не-фарта, любой роковой случайности, способной помешать твоему любимому спортсмену победить, разрушить его мечту. И... твою!
Лицо спортсмена, пережившего страдание. Каждый день я вижу его, и мучительно сжимается сердце, и хочется сказать ему самое нужное, найти то единственное слово, которое хоть немного, но успокоит его, вернёт в жизнь.
Олимпийская столовая. Вечером она заполняется, и никто не спешит расходиться. Вот в очередной раз распахиваются двери и появляется команда, закончившая сегодня свое выступление. И я вижу, кто проиграл свой главный старт... Застывший взгляд, детская растерянность, непонимание и жалкая покорность случившемуся. А у женщин опухшие от слез глаза.
А вот определить победителей почему-то я не могу. И это удивляет меня самого, насмотревшегося в своей жизни и в спорте многого. Да, нет на лице нового олимпийского чемпиона радости и торжества, а есть лишь безумная усталость, полное опустошение, примирение с миром и с собой. Слишком тяжело сейчас достаётся побе-
да, и нет сил даже на простую человеческую радость. Слишком важна она для человека и для всей его последующей жизни, и рождает потому не эмоции, а желание осознать, подумать, разобраться в себе, принять случившееся на личностном уровне, на уровне своей судьбы.
Так что ты даешь, Олимпиада? Конечно, потрясение от самой борьбы. Воспоминаний с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь. Но это же пережитое потрясение трансформировало мой внутренний мир, психоанализ которого я произвожу уже более полугода и пока не могу считать его завершённым. Что-то ушло «из меня», и стало просто неинтересно пролистывать прочитываемый ранее от первой до последней строчки «Спорт-экспресс». Больше пяти минут не выдерживаю любую спортивную телетрансляцию. Не могу и не хочу рассказывать даже близким — об Играх.
— Лёша не тот, — ставлю я приговор первому прокату Алексея Ягудина (вчера, 26 октября, показали его катание в первом послеолимпийском году). Да, всё не то в его катании, а точнее — в нём, в лице, в глазах. И дело не в том, что он немного растолстел. В другом. Его катание оставляет равнодушным. Он пуст. Он не может найти в себе то, что выплёскивалось раньше с первыми аккордами музыки.
Татьяна Анатольевна видит эти непривычные оценки 5,3 и 5,4... и улыбается, но улыбка даётся ей с трудом.
Я смотрю на дорогие мне лица, и становится ясно, что ответа на этот вопрос «почему?» нами — спортсменом Алексеем Ягудиным, тренером Татьяной Тарасовой и психологом Загайновым —
не найден. А от успешного его поиска зависит, быть может, вся дальнейшая жизнь как самого спортсмена, так и всей нашей группы.
Так что же отняла у сверхталантливого фигуриста Алексея Ягудина победная Олимпиада? И что предстоит нам сделать, чтобы вернуть в его катание всё то, что поднимало людей на ноги уже в середине «тарасовских» программ? И что должны сделать мы — работающие с ним, и что должен сделать спортсмен сам, чтобы стать прежним — неотразимым и непобедимым? Путь к самому себе, — так можно назвать то, что предстоит совершить Алексею Ягудину. И только сейчас я понял, как это тяжело, если вообще возможно.
В последние две недели до олимпийского старта происходило то, что можно назвать одним словом «психоз». За завтраком Лёша говорит мне: «Это вся моя еда на сегодняшний день».
Я молча соглашаюсь. Соглашаться во всём — самый правильный стиль поведения сейчас, когда уже ярким пламенем бьется в его сознании, в каждом нерве и в каждой мышце тот самый олимпийский огонь, главный старт в жизни каждого настоящего спортсмена. К Солт-Лейк-Сити Леша шёл семнадцать с половиной лет, пожертвовав в этом долгом пути фактически всем, что есть в жизни обычного человека.
После тренировки мы идем к нашей гостинице, и Лёша говорит: «Что за жизнь у меня, Рудольф Максимович? Голеностоп болит, колени болят, пах болит, плечо болит...»
Я решаюсь прервать, а может быть, развеселить его и продолжаю:
— Жопа болит.
Но он (без улыбки) останавливается, спускает брюки:
— А жопа знаете, где болит?.. Вот здесь,
кость. — И тычет пальцем в больное место.
— Ничего, Лёшенька, — всегда говорю я в от
вет на его очередную жалобу, — осталось всего
десять тренировок. — Что означает пять рабочих
дней (по две тренировки в день) и два выходных,
которые он требует у тренера уже три дня.
— Я не отступлю, — отвечаю я Татьяне Анато
льевне. — Поверьте, если спортсмен не выпол
нит то, что нами намечено, не будет главного —
уверенности в проделанной работе. А на Олим
пиаде добавится стресс самой Олимпиады и будут
сорваны главные прыжки. Упадут все, кто не из
девался над собой в работе.
— Вы видите, папаша (моя кличка в группе), я
слушаюсь. Хотя вообще-то я никого не слуша
юсь, — отвечает она.
И мы смеемся, хотя даже простая улыбка с каждым днём даётся всё труднее.
И давно забыл об улыбке наш Лёша. Его похудевшее и потемневшее от усталости лицо вызывает у нас жалость и сострадание. И невыносимо смотреть, как после проката своей произвольной программы (4 минуты 40 секунд) Лёша отъезжает к противоположному (подальше от нас) борту, наклоняется, и его тошнит, буквально выворачивая наизнанку.
— Он умрёт, он умрёт, — причитает Татьяна
Анатольевна. Я не отвечаю ей. Потом он подъез
жает к нам, и я говорю:
— Молодец, Лёшенька! Осталось восемь тре
нировок! — Жду их в раздевалке и слышу (дверь
полуоткрыта) его крик:
— Я так никогда не тренировался!
И Татьяна Анатольевна что-то приглушённо отвечает ему. «Валит на меня, — говорю я себе, — и правильно делает». — «Поэтому Вы здесь!» — часто говорит мне сам Лёша.
И вот он входит в раздевалку и буквально падает на скамейку.
— Молодец! — снова говорю я, — это была
настоящая работа! — Лёша лежит, его грудная
клетка поднимается и опускается в такт тяжело
му дыханию. Он спрашивает:
— И всё-таки, Рудольф Максимович, когда у
меня будет выходной?
— А когда ты хочешь?
— А когда лучше? — спрашивает он. Как рад я
это слышать! Значит, спортсмен готов страдать и
дальше, если нужно. Он покапризничал со сво
им любимым тренером, избавился от отрицатель
ных эмоций (и спасибо за это Татьяне Анатоль
евне), а сейчас вновь настроен на «конструктив»
с тем, «кто для этого здесь».
— Давай сделаем так: завтра — пятница, рабо
таем с полной отдачей. Поверь, это надо! А суб
боту и воскресенье будешь отдыхать. И полнос
тью восстановишься!
Я наклоняюсь и целую его. И говорю:
— Благодарю за работу.
Итак, 48 часов отдыхаем друг от друга. И есть возможность посмотреть по сторонам. Многие готовятся здесь, в Калгари, и сталкиваешься с ними с утра до вечера — и в отеле, и на улице, и в залах. Всегда собранные и серьёзные китайцы, готовые, это угадывается по воле в глазах, уже сегодня заявить всем остальным спортсменам мира: скоро мы разгромим вас всех!


 Корейцы, совсем не похожие на своих соседей, всегда оживлённые, беспрерывно лопочущие что-то на своем языке.
Корейцы, совсем не похожие на своих соседей, всегда оживлённые, беспрерывно лопочущие что-то на своем языке.
Румыны, венгры, поляки — на одно лицо, и не чувствуешь, глядя на них, что это олимпийцы, и забываешь о них сразу после встречи на одной из узких улиц Калгари.
И наши... Вот где меня ожидал сюрприз. Я буквально впивался в лица тех, на чьих костюмах значилось слово «Россия», и видел совсем не то, что видел в прошлые годы, когда бывал за рубежом с теми, на чьих костюмах сияло (я не преувеличиваю) слово «СССР». Да, той магии не было. Сейчас это были другие люди — понурые, не улыбающиеся, будто потерявшие уверенность.
«Боже мой, беда-то какая!» — помню, подумал я тогда. И вспомнил, как в начале перестройки, когда опекал Анатолия Карпова (было это в Испании), помню, зашел к нему в номер и слышу: «У Вас включён телевизор? Видели парад открытия Олимпиады-76? Какие люди шли — Василий Алексеев, Турищева, Борзов! Какую команду Горбачёв развалил!»
...Но я понимаю, что дело не только в фамилиях. Что произошло с нами, с каждым конкретным человеком? Что отнято у него и что он потерял сам? Подхожу к одному из наших спортсменов и спрашиваю:
— А как атмосфера в команде?
Он оценивающе осматривает меня с ног до головы и затем отвечает:
— Ужасная.
Потом садится рядом и обрушивает на меня всё накопившееся в его душе. И заканчивает монолог словами:
— Я даже массаж делаю у немецкого массажи
ста. И нашему врачу ничего не говорю — лечусь
сам.
...Семнадцать дней в Олимпийской деревне подтвердили мои опасения. Я не видел и следов оптимизма в лицах наших замечательных ребят и девушек. Но видел другое — и не раз — уезжающих на поле боя в полном одиночестве.
Никто не сопровождал их! Такого во времена советского спорта быть не могло по определению. Беда! И нет другого слова.
Лёшу практически не видел. Только утром, проходя мимо ресторана, краем глаза заметил его, беседующего с официантом. Он сделал вид, что не видит меня. То же самое сделал я. Как договорились — отдыхаем друг от друга.
Всё записал о последнем рабочем дне и понял, что сидеть в номере нет сил. И поехал на лёд. Поехал к Татьяне Анатольевне — с ней не соскучишься.
— Что сейчас будешь делать? — спрашивает
она танцора Арсения Маркова.
— Поработаю у зеркала, — отвечает он. Она
смотрит ему вслед и говорит:
— Иди-иди, поработай над своим уродством.
Мимо нас прошла на лёд незнакомая фигуристка. Татьяна Анатольевна не обделяет и её вниманием, говорит: «Сейчас пойдет, откатает своё нехитрое».
Я просто отдыхаю, с удовольствием слушаю её прибаутки, но смеяться нет сил. Да и желания тоже: своей железной лапой держит нервы доминирующая мысль о н ё м! Что он? Где он? Как он? Как себя чувствует? Спал ли ночью? Как тянется для него это пустое время выходного дня?
И тренер, конечно, думает о том же. Татьяна Анатольевна подходит ко мне, кладёт руки мне на плечи и спрашивает:
— Ну как он?
— Отдыхает.
— Пусть отдыхает, — после паузы говорит она.
Садится рядом и шепчет:
— Чуть не умерла ночью, — и показывает на
сердце.
— Почему не позвонили?
В ответ махнула рукой.
...На лед вышла наша лучшая пара, и Татьяна Анатольевна резко встала и подошла к борту.
Смотрю на танцоров, любуюсь ими и отдыхаю. Прекрасная музыка и всё остальное прекрасно. Красоту нарушают иногда крики Татьяны Анатольевны, но я давно адаптировался к ним, и моему отдыху от мужского одиночного катания ничто не способно помешать. Лишь бы там, лишь бы у него все было в порядке!
...Почему так не любят танцы и не считают их за спорт представители одиночного и парного катания? Хотя труд здесь не менее адский. Но нет, — соглашаюсь я с ними, — того риска и того страха от сумасшедших прыжков, без которых побед в одиночном и парном катании не бывает. «Крутят жопами», — сказала мне вчера за обедом известная наша одиночница.
Смотрю на лёд, на родные лица ребят и вижу сейчас (словно глаза открылись) совсем другое. На заплаканные глаза нашей красавицы Ша Линн я обратил внимание сразу.
— Что случилось? — спросил я тренера.
— Отец объявился. Позвонил вдруг... впервые
после того, как бросил их. Пожелал успеха на
Олимпиаде.
Ю
Татьяна Анатольевна присела на скамейку и, не отрывая глаз от разминающихся танцоров, рассказывала:
— Мой Володя (Крайнев) ведь тоже вырос без отца. И, как и Лёша, никогда его не видел. И вот однажды, это было на гастролях в Пятигорске, он увидел человека, исключительно похожего на него. И потом ему рассказали, что после концерта этот человек долго стоял у двери его уборной, но так и не решился зайти.
А я смотрел ещё на одну нашу пару и ругал себя последними словами. Вчера в машине я сидел рядом с французским танцором по имени Оливье, совсем молодым мальчиком, у которого всё в жизни пока должно быть без трагедий. И потому свой вопрос я задал смело: «Кто у тебя остался дома? Папа, мама?»
Он замялся, а я подумал, что он плохо понял мой английский, и повторил вопрос. И услышал в ответ: «Папа умер, а мама — хорошо!»
Меня как будто ударили обухом по голове. Идиот! Надо же было давно спросить у Татьяны Анатольевны об этой паре. И не имеет значения, что ты с ними как психолог не работаешь.
Нет, не идиот, а вдвойне идиот! — говорю я себе, — поскольку подобный прокол у меня уже был. На чемпионате мира по вольной борьбе, перед финальной схваткой меня попросили помочь борцу, которого я ранее не опекал и, следовательно, его биографии не знал. Я контролировал его разминку, мы прекрасно общались, но с вызовом на ковёр произошла задержка и несколько минут мы были вынуждены простоять у выхода на сцену. И тогда я, желая согреть душу спортсмена приятным воспоминанием, спросил: «Где сейчас твои Родители?» И услышал: «А у меня нет родителей.
и
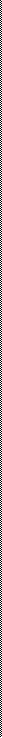 Меня тётя воспитала». К счастью, задержка затянулась, и я в подаренное мне время успел исправить ситуацию. Мы посвятили эту схватку тёте, и он её блистательно выиграл. Но состояние неловкости преследовало меня ещё долго.
Меня тётя воспитала». К счастью, задержка затянулась, и я в подаренное мне время успел исправить ситуацию. Мы посвятили эту схватку тёте, и он её блистательно выиграл. Но состояние неловкости преследовало меня ещё долго.
Как красиво скользит по льду Ша Линн — тяжёлое детство, в многодетной семье, без отца. Везде, где бы мы ни были, я заметил это, она покупает подарки своим братьям и сестре.
И красив Оливье — Татьяна Анатольевна убеждена, что через несколько лет ему как партнёру не будет равных. И в аэропортах он тоже, если есть время, сразу направляется в магазины сувениров.
А я вспоминаю, что не забыл, вылетая первый раз к Татьяне Анатольевне, захватить книгу Анатолия Владимировича Тарасова «Совершеннолетие», на обложке которой он написал: «Дорогому Рудольфу Загайнову!...»
— Почерк узнаёте? — спросил я.
Она склонилась над книгой, долго-долго молчала и затем тихо сказала: «Толя».
Выходной, как же ты опасен! Вспоминается всё то, о чём лучше не вспоминать, что отягощает твоё настроение и даже делает тебя слабее. Теперь я вспоминаю Лёшу и говорю себе: «Трижды идиот!» Это было три дня назад. Он огрызался на Ц каждое замечание тренера, в том числе — и на | деловые. Потом прервал тренировку и минут за двадцать до её окончания покинул лёд. Когда он проходил мимо меня, я сказал: «Не понял юмора», но он ничего не ответил.
Обычно, переодевшись, он заходил за мной и мы вдвоём уезжали в отель, куда Татьяна Анато-
льевна возвращалась вместе с танцорами примерно через час.
Но сегодня я решил принять сторону тренера и, когда Лёша подошёл к нам и сказал: «Поехали», я ответил: «Нет, я поеду с ними». Ответил и сразу отвернулся, снова стал смотреть на лёд. И вдруг услышал: «Заплакал», — это произнесла Татьяна Анатольевна.
Я резко повернулся, но Лёши уже не было. Мы с тренером стояли и молча смотрели друг на друга. Такой поникшей и растерянной я её ещё не видел.
И знаю: этот стоп-кадр будет вечно стоять перед моими глазами. Конечно, надо было поддержать и защитить (!) тренера. Но в то же время надо было учитывать, что спортсмен за считанные дни до Олимпиады уже на пределе, и требуется самое бережное отношение к его душевному состоянию, измочаленному диким ожиданием её начала.
Ох, этот выходной! Голова переполнена воспоминаниями. И не знаешь — хорошо это или плохо. Всего неделю назад, перед началом последней сверхнагрузочной недели я сознательно пошёл на тяжёлый разговор со спортсменом (а Лёша в тот момент просил ещё один день отдыха):
— Ты не готов к Олимпийским играм! — зая
вил я ему. — Ты задыхаешься, ты ни разу во всех
пяти турнирах, где мы были вместе, не откатал
уверенно произвольную программу!
— Я так не привык тренироваться. Я всегда от
дыхал после трёх рабочих дней, — парировал Лёша.
Но я продолжал наступление:
— То, что я видел, тренировкой назвать нельзя,
ты жалеешь себя. Поверь мне, отменим завтра
тренировку — всё пойдет кувырком.
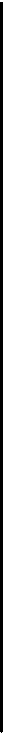 Лёша молчал и готовился, я видел это, заявить мне нечто категоричное. И я услышал:
Лёша молчал и готовился, я видел это, заявить мне нечто категоричное. И я услышал:
— Рудольф Максимович, я это хотел сказать
Вам ещё в Ленинграде, когда мы поссорились.
Вы отвечаете за психологию, а мы с Татьяной
Анатольевной за тренировочный процесс.
Но на такие заявления у меня подготовлены ответы, и за это я благодарю свой многострадальный опыт и всех тех, кого я не только опекал, но и у кого многому научился. И вчера на Лёшину фразу: «Опять про Бубку будете рассказывать?» — я не раздумывал ни секунды: «Да, потому что ты пока по сравнению с ним жалкий любитель!»
И сейчас я не помедлил и секунды:
— А это, чтобы ты знал, связано одно с другим
весьма тесно. Уверенность — это психологичес
кое понятие?
Я держал паузу, он молчал.
— Да или нет? — чуть повысив голос, спросил я.
— Да, — ответил он.
— Так вот, воспитать её можно не психологи
ческими разговорами, а только работой!
— Ну ладно, завтра в семь пятнадцать, — уг
рюмо произнёс он и направился к двери. И, вы
ходя из моего номера в коридор, пробормотал
(но достаточно громко, чтобы я расслышал):
— Все всё знают...
...И разговор с Татьяной Анатольевной (была уже глубокая ночь). Она выслушала мой отчёт о прошедшем дне, в том числе слово в слово последний разговор с Лёшей и сказала:
— Вообще-то, мой папа говорил, что надо счи
таться с желанием спортсмена.
Она не в первый раз привлекает Анатолия Владимировича себе в союзники, и с этим я считаюсь. Но не сегодня.
— Татьяна Анатольевна, наш спортсмен не го
тов к соревнованиям. С этим Вы согласны?
— Хорошо, берите это на себя. Но помните —
мы так никогда не тренировались.
— Татьяна Анатольевна, на последнем этапе
подготовки спортсмен должен чувствовать, что
его воле противостоит воля тех, кто с ним рабо
тает. А воли тренера он не чувствует, Вы готовы
идти на поводу его состояния.
— Но у него разладится четверной прыжок, а
надо неделю, чтобы его восстановить.
— Не разладится! Вот увидите! И есть ещё один
закон — спортсмена нельзя жалеть, в этом слу
чае он сам себя будет жалеть, и тогда конец.
— С этим я согласна, — подвела итог великий
человек и великий тренер.
И последняя тренировка этой жестокой недели, четырнадцатая подряд, без единого дня отдыха. После утренней (тринадцатой) тренировки, делая ему свой сеанс и видя его лицо вблизи, не выдерживаю:
— Насчет вечерней тренировки реши сам.
Ответ был мгновенным:
— Буду тренироваться!
И вот мы поднимаемся по ступеням лестницы нашего катка, и с мукой в голосе он произносит:
— Если бы Вы знали, как я устал от фигурного
катания! Всё время одно и то же!
Идёт разминка, и он... великолепен! Очень собранно работает, ни на что не отвлекается. Мы встречаемся глазами с тренером, и я чувствую тепло её взгляда.
Но вдруг на ровном месте он падает и, вставая, хватается за пах. На лице Татьяны Анатольевны нескрываемый ужас и паника:
— Что Вы делаете? — шепчет она мне. — Ведь
это фигурное катание...
— Может, закончишь? — спрашивает она Лёшу.
— Нет! — отвечает он ей и едет к центру катка.
И волшебно катает всю «короткую». И Татьяна Анатольевна вытирает слезы, отвернув от меня своё лицо.
А я пять минут назад, поняв, что он собрался ещё раз откатать целиком «короткую», и увидев ещё более побледневшее его лицо, сам испугался и готов был сломаться, но что-то остановило меня. Не мой ли опыт в других видах спорта, где ребята перед Олимпиадами «пахали», порой теряя сознание?
И когда он начал прокат «короткой», я вновь услышал Татьяну Анатольевну:
— Вы берёте это на себя?
И снова ответил: «Беру!»
...Идём в раздевалку, и я произношу заготовленную фразу:
— Так ты никогда не прыгал!
— Вроде да, — с улыбкой отвечает он.
Сидим в раздевалке (как-то он сказал: «Если я
не посижу после тренировки...»), и идёт наш разбор полётов:
— Ты преодолел усталость, а не сдался ей! Вот
что было самым ценным сегодня!
У него нет сил отвечать, я вижу это. И также вижу, что он готов слушать и дальше. И говорю:
— А если бы ты ещё и завтра потренировал
ся!.. Но сейчас он находит силы, и я слышу:
— И сегодняшнее было лишним.
22.00. Стук в дверь, и я счастлив видеть его улыбку. Шутливо-требовательно он спрашивает:
— Здесь готовы отмассировать мою голову?
Просыпаюсь, но встать не могу — полное опустошение. И вспомнил шутку Татьяны Анатольевны, которую слышал не раз:
— Хотелось бы дожить до выходного, очень
бы хотелось.
А в последнем нашем споре, когда я возражал против двух выходных, она заявила: «Выходные нужны и мне, и Вам!»
Опять она права, сейчас на переход в вертикальное положение сил нет, и я продолжаю лежать. Вспоминаю, как вчера почти два часа колдовал над телом Лёши, как нелегко ему было проснуться, затем сесть, а потом встать. Качаясь, он шёл к двери, а я провожал его. Он держался за ручку двери и что-то вспоминал.
— Завтра мы с Вами идём на хоккей.
— Отдыхай завтра от всех.
— Нет, завтракаем мы вместе — в десять Вас
устраивает?
— Тогда я успею побегать.
— Но это без меня.
Короткое объятие, и он уходит. Уходит в выходной! И целые сутки будет смаковать радость преодоления, а не горечь поражения от усталости, что имело бы место в случае отмены тренировок в связи с этой самой усталостью, то есть по причине слабости его личности. И послепослезавтра, после 48 часов отдыха на этот ненавистный лёд он выйдет более сильным, на порядок сильнее, чем это было 48 часов назад.
«Мы победим!» — говорю я себе. И повторяю эти два слова вслух! У меня сегодня и завтра тоже радостные выходные!
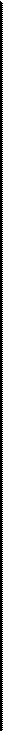 Ох, эти выходные! Ещё лет двадцать назад, работая в футболе, я обратил внимание на то, что к концу выходного дня люди не выглядят отдохнувшими и беззаботными, а наоборот — утомлёнными и озабоченными. А помогли раскрыть суть данного, на первый взгляд, загадочного явления вечерние доверительные беседы с футболистами, которые я обязательно провожу и в выходные дни. Оказалось, что если все 24 часа спортсмен был предоставлен сам себе, если в течение дня ему не были предложены какие-либо мероприятия, пусть даже такие, как посещение кинотеатра, то к концу дня эмоционально он сникал, а его мысли погружались в проблемы личной жизни, не имеющие отношения к спорту. В тренировках он на время их «забыл». А сегодня вот получил возможность вспомнить и сник, впал в тоску.
Ох, эти выходные! Ещё лет двадцать назад, работая в футболе, я обратил внимание на то, что к концу выходного дня люди не выглядят отдохнувшими и беззаботными, а наоборот — утомлёнными и озабоченными. А помогли раскрыть суть данного, на первый взгляд, загадочного явления вечерние доверительные беседы с футболистами, которые я обязательно провожу и в выходные дни. Оказалось, что если все 24 часа спортсмен был предоставлен сам себе, если в течение дня ему не были предложены какие-либо мероприятия, пусть даже такие, как посещение кинотеатра, то к концу дня эмоционально он сникал, а его мысли погружались в проблемы личной жизни, не имеющие отношения к спорту. В тренировках он на время их «забыл». А сегодня вот получил возможность вспомнить и сник, впал в тоску.
Интересно, что первый рабочий день после выходного, как правило, бывает тяжёлым.
И всегда возникает вопрос: а нужен ли вообще выходной?
— Не нужен! — категорически утверждает тренер по велоспорту Александр Кузнецов. В его ве-лоцентре, где были воспитаны такие суперзвёзды, как пятикратная чемпионка мира Галина Царёва и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, в рабочем плане, расписанном на год вперёд, из 365 дней ни один не был выходным. Лишь 1 января отменялась утренняя тренировка.
И Борис Беккер в свои лучшие годы, когда он вёл абсолютно профессиональный образ жизни, приезжал на корт в воскресный день и в одиночестве (я выполнял роль тренера) пробегал пятикилометровый кросс, а затем не меньше часа работал — не купался, а плавал — в бассейне.
И ещё один великий профессионал Дражен Петрович тренировался 365 дней в году. Однажды после победной игры на Кубок европейских чемпионов он так ответил на вопрос: «Что будете делать завтра?» — «То же, что после любой игры: кросс 8 километров и 500 бросков по кольцу».
Какой смысл вкладывает в решение — не иметь выходных — выдающийся спортсмен? А оно, его решение, даже не должно обсуждаться! Его мы, простые смертные, имеем право только исследовать!
Результат моего исследования: в данном случае человек, каторжно нагружающий себя каждодневно, уничтожает (на корню) в своём сознании установку на выходной (!).
Нет в его сознании, как нет и в жизни, дня, свободного от нагрузки. И нет ожидания такого дня, а значит, нет такого феномена, как суммирование утомления, что обычно имеет место у всех тех, у кого «установка на выходной» обязательно «живёт», и он ждёт этого дня, уставая при его приближении всё больше и больше.
...И совсем скоро мне предстоит столкнуться с проблемой выходного ещё раз. Это случится после завершения выступления Лёши Ягудина, когда я перейду в нашу хоккейную команду.
Я вошёл в тренерскую комнату, когда в самом разгаре был спор между Вячеславом Александровичем Фетисовым и Владимиром Владимировичем Юрзиновым.
— Нужна тренировка! — утверждал Юрзинов.
— Так послезавтра (послезавтра предстояла
игра с чехами) они будут без ног! — яростно от
стаивал свою точку зрения Фетисов.
Увидев меня, Вячеслав Александрович сказал:
— Рудольф Максимович, ваше мнение?
— Мой опыт, — ответил я, — показывает, что,
если выходной будет пущен на самотёк, это мо
жет развалить команду.
— В советское время — да, — ответил Фети
сов, — но у нас в команде только те, кто играет
восемьдесят матчей в году, и выходной им не
обходим.
Поздно вечером Владимир Владимирович пришёл ко мне в номер и спросил: «А что значит "выходной, пущенный на самотёк?"»
— Это тот самый случай, когда спортсмен весь
день предоставлен сам себе и к концу свободного
дня в его подсознании неудовлетворение от пусто
го дня, а не ощущение отдохнувшего организма.
— Да, я такого же мнения. Но что делать, если
тренировка, как сказал Слава, нежелательна?
— Думаю, надо составлять план выходного дня.
Ребятам дать возможность выспаться, зарядка
необязательна. Но между завтраком и обедом дол
жно быть какое-то мероприятие, не важно что:
встреча с интересным человеком, например. И по
добное мероприятие между обедом и ужином: хо
роший фильм, тщательно подготовленное кон
структивное собрание. После ужина — чаепитие
с тортом, лучше — в комнате тренера. Ребята в
этом случае отдохнут, расслабятся. И в то же вре
мя у них не будет возможности затосковать.
Ох, эти выходные! Но один, слава Богу, прошёл. В 23.00 я вышел на балкон, куда выходят наши окна, и бесшумно подкрался к Лёшиному окну. И увидел его, склонившегося над компьютером. И облегчённо вздохнул. И сразу набрал номер Татьяны Анатольевны. Сказал только два слова: «Спи-
L
те спокойно». А сам открыл свой «компьютер» — так называю я дневник, ежедневно заполняемый мною уже сорок лет. До сих пор не верю, что компьютер способен заменить то, что пишется рукой.
...Нашёл строки о «безотцовщине», как отличительной характеристике нашего коллектива. В последней тренировке я смотрел на лёд и зафиксировал ещё один стоп-кадр. По льду скользили все наши, а я молча называл имена тех, кто входит в эту «команду», «команду без отцов»: Лёша, Оливье, Ша Линн, хореограф Коля Морозов, Рудольф Загайнов. И сказал себе: всех нас спас спорт! И спросил себя: чтобы мы делали без него? Где ещё можно честно прорваться к вершине, хотя без пота и крови это не удавалось никому из нас. Ведь безотцовщина может сделать с человеком всё, что угодно: как максимум — исковеркать его жизнь, как минимум — сделать её тяжёлой, иногда тяжелейшей.
...Ползёт второй выходной день — время будто остановилось. Но есть дело, и дело очень серьёзное, сверхсерьёзное. До отъезда в Солт-Лейк-Сити, а он запланирован на восьмое, остаётся неделя. Что это такое — последние семь дней? Со многими великими профессионалами спорта обсуждал я суть данного феномена, и практически все они мыслят примерно так: в последние дни перед стартом никакой науки нет и быть не может! А что же есть? Привожу высказывание очень крупного тренера по боксу Владимира Лаврова из Волгограда: «Последняя неделя — это искусство тренера и интуиция спортсмена». Пожалуй, это самая точная формула, и с ней были согласны многие коллеги Лаврова. «Искусство тренера» — это его умение безошибочно диагностировать состояние спортсмена и с учётом «диагноза» дифференцировать предлагаемые