О коллективной ответственности 8 страница
Этому должно содействовать еще одно явление, которое особенно ясно можно наблюдать в поведении собравшейся толпы: впечатление или импульс усиливаются от того, что они одновременно захватывают большое число отдельных людей. То же самое впечатление, которое оставило бы нас довольно холодными, если бы коснулось нас одних, может вызвать очень сильную реакцию, когда мы находимся в более многочисленной толпе, хотя и каждый отдельный член ее попадает в совершенно ту же ловушку; как часто мы откликаемся в театре или в собраниях смехом на такие шутки, на которые в комнате бы реагировали, только пожимая плечами; какой-нибудь импульс, которому вряд ли последовал бы каждый в отдельности, приводит его, как только он находится в большой толпе, к совершению совместно с другими поступков, связанных с порывом сильнейшего энтузиазма и заслуживающих похвалы или порицания. Если толпа в выражении своих чувств увлекает за собой
[387]
отдельного человека, то это совсем не значит, что последний сам по себе совершенно пассивен и что только другие, иначе настроенные, побуждают его поступать так, как он поступает; так может казаться ему с его субъективной точки зрения; но ведь фактически толпа состоит сплошь из отдельных людей, с которыми происходит то же самое. Здесь имеет место самое чистое взаимодействие; каждый отдельный человек способствует общему настроению, воздействие которого на человека, конечно, количественно столь велико, что собственный вклад индивида кажется ему исчезающе малым. Хотя и нельзя установить закон постоянной функциональной связи между определенным возбуждением и количеством единовременно захваченных им людей, однако все-таки, в общем, несомненно, что первое повышается одновременно с последним. Отсюда — часто совершенно невероятное воздействие мимолетных возбуждений, сообщаемых массе, и лавинообразное усиление самых слабых импульсов любви и ненависти. То же относится уже к животным, живущим стадами и стаями: самый тихий удар крыла, самый маленький прыжок одного из них часто вызывает панический ужас, охватывающий всю стаю. Один из самых своеобразных и наглядных случаев усиления чувства вследствие совместного пребывания в обществе демонстрируют квакеры. Хотя интимность и субъективизм их религиозного принципа противоречат, собственно говоря, всякому совместному богослужению, тем не менее оно имеет место и притом нередко так, что они молча в течение целых часов сидят вместе; и вот, они обосновывают эту совместность тем, что она может помочь нам приблизиться к духу Божию; но так как это сводится для них только к вдохновению и нервной экзальтации, то ясно, что и одно только молчаливое совместное пребывание должно этому благоприятствовать. Один английский квакер конца XVII в. описывает явления экстаза, происходящие с одним из членов собрания, и продолжает так: «В силу того, что все члены общины связаны в одно тело, такое состояние одного из них очень часто сообщается всем, и в результате этим вызывается захватывающее плодотворное явление, которое, действуя с неотразимой силой, привлекло уже многих в общину». Можно прямо говорить о нервозности больших масс; им часто свойственны такая чувствительность, такая страсть и эксцентричность, которые нельзя было бы констатировать ни у одного из их членов или, по крайней мере, у очень немногих, взятых по отдельности.
Все эти явления указывают на ту психологическую ступень, на которой душевная жизнь еще преимущественно определя-
[388]
ется ассоциацией. Более высокое духовное развитие разрывает ассоциативные связи, которые соединяют между собой элементы душевной жизни столь механически, что возбуждение одной какой-нибудь точки влечет за собой нередко самые обширные потрясения, происходящие с такой силой и в таких областях, которые по существу не имею никакого отношения к этому исходному пункту; возрастающая дифференциация придает отдельным элементам сознания такую самостоятельность, что они все больше начинают вступать только в логически оправданные сопряжения и освобождаются от тех родственных связей, которые берут начало в расплывчатой неясности и отсутствии строгой ограниченности в примитивных представлениях. Но до тех пор пока господствуют последние, можно наблюдать перевес чувств над функциями рассудка. Ибо как бы ни было истинно или ложно учение, согласно которому чувства суть только неясные мысли, однако, во всяком случае, расплывчатость, неясность и спутанность содержания представлений вызывают сравнительно оживленное возбуждение способности чувства. Итак, чем ниже интеллектуальный уровень, чем менее надежно ограничены содержания представлений (а именно за счет ограничений они сопрягались друг с другом), тем более возбудимы чувства и тем труднее именно проявления воли могут быть вызваны такими рядами представлений, которые являются четко ограниченными и логически расчлененными; тем легче это может быть достигнуто, напротив, посредством того общего душевного возбуждения, которое создается передачей сообщенного толчка и является настолько же причиной, насколько и следствием колебаний чувства. Итак, в то время как восприятие некоторой идеи или импульсов большой толпой лишает их той строгой определенности, которая свойственна понятиям, — хотя бы уже потому, что на их усвоение каждым отдельным человеком влияет усвоение его товарищей, — однако тем самым уже дана психологическая основа для того, чтобы сообщить толпе настроение и направление18 путем обращения к ее чувствам; там, где неясность понятий оставляет много простора для жизни чувства, там и чувство в процессе взаимодействия будет оказывать больше влияния на другие и более высокие функции, а решения, в других случаях являющиеся результатом внятно расчлененного телеологического процесса в сознании, будут складываться из тех гораздо более неясных размышлений и импульсов, которые следуют за возбуждением чувств. Существенной является и та неспособность к противодействию, которая составляет следствие такой душев-
[389]
ной организации и помогает объяснению того увлечения общим потоком, которое мы охарактеризовали выше; чем более примитивно и недифференцировано состояние сознания, тем труднее тотчас же найти необходимый противовес для возникающего импульса. Ограниченный духовный уровень может вместить только одну-единственную группу представлений, которая и продолжает существовать беспрепятственно благодаря тому, что границы его элементов расплывчаты. Этим же объясняются и быстрые перемены в настроениях и решениях народной толпы, в которых для старого содержания остается в данный момент столь же мало места, насколько его было прежде мало для нового; понятно, что быстрота и резкость в последовательной смене представлений и решений коррелирует с их недостатком таковых в единовременном сосуществовании.
Другие психологические основания того, что я назвал коллективной нервозностью, относятся, пожалуй, главным образом к обширной области явлений «симпатии». Начнем с того, что при тесном соседстве множества людей возникает большое количество смутных ощущений симпатического и антипатического характера, что много различных возбуждений, стремлений и ассоциаций сплетаются с теми разнообразными впечатлениями, которые мы испытываем, присутствуя, например, в народном собрании, в аудитории и т.д.; и если даже ни одно из этих впечатлений не сознается нами ясно, то все они именно в совокупности действуют возбуждающе и производят внутреннее нервное движение, страстно хватающееся за всякое предоставляющееся ему содержание, и усиливают его, намного превышая ту меру, в пределах которой оно оставалось бы, не будь этого субъективного состояния возбуждения. Это позволяет нам в общих чертах понять то усиление нервной жизни, которое приносит с собой обобществление19, а также, что первое должно быть тем больше, чем разнообразнее исходящие от второго впечатления и возбуждения, иными словами, чем шире и дифференцированнее наш культурный круг. Между тем другая форма симпатии является здесь еще более важной. Мы невольно подражаем тем движениям, которые видим вокруг себя; подобно тому как, слушая какую-нибудь музыкальную пьесу, мы нередко сопровождаем ее вполне бессознательно или полусознательно пением или, увидав какое-нибудь оживленное действие, часто сопровождаем его очень своеобразным движением своего тела, точно так же мы повторяем чисто физически те движения, изменения в чертах лица и т.д., в которых обнаруживаются душевные движения окружающих нас людей.
[390]
Однако посредством ассоциации, образовавшейся и в нас чувством и его выражением и действующей также и в обратном направлении, это чисто внешнее воспроизведение вызывает, по крайней мере отчасти, соответствующее ему внутреннее событие. Все высшее актерское искусство основано на этом психологическом процессе. Воспроизводя сначала лишь внешним образом то положение и те движения, которые нужно изобразить, актер наконец сживается с их внутренним бытием и, выходя за пределы внешнего подражания, проникается им вполне, так что играет, исходя исключительно из психологических свойств данного лица. Давно уже установлено и то, что чисто механическое подражание жестам разгневанного человека вызывает в самой душе отзвуки гневного аффекта. Следовательно, известное возбуждение, находящееся в пределах нашего кругозора, вовлекает нас более или менее в свою сферу, и орудием его являются звенья чувственного выражения аффекта и симпатически-рефлекторного подражания ему. Это явление будет, конечно, тем более постоянным, чем чаще один и тот же аффект выражается вокруг нас. И если это имеет место даже тогда, когда мы вступаем в толпу беспристрастно, то в тех случаях, когда наше собственное настроение совпадает с настроением толпы, оно более всего усиливается, доходя до описанного нами взаимного увлечения, до подавления всех рассудочных и индивидуальных моментов тем чувством, которое обще нам с этим числом людей; взаимодействие индивидов между собою стремится к тому, чтобы довести всякое чувство, какой бы силой оно ни обладало, до степени еще более высокой20.
Но тем самым мы, кажется, противоречим результату предшествующих рассуждений, согласно которым объединение толпы на одинаковом уровне предполагает, что последний относительно низок, а индивиды понижают свой уровень. Но хотя индивидуальное и находится, по сравнению с социальным уровнем, на некоторой относительной высоте, последний все-таки должен всегда иметь некую абсолютную высоту, которая как раз и достигается взаимным усилением ощущений и энергий. Кроме того, только вполне сформировавшийся индивид должен опуститься, чтобы достигнуть общественного уровня; до тех пор и постольку, поскольку его наклонности находятся еще в потенциальном состоянии, ему очень может быть нужно подняться до него21. Также и подражание, устанавливающее одинаковый уровень, представляет собою одну из низших функций, хотя эта функция в социальном отношении имеет огромное значение, совсем еще не оцененное по достоинству. В этом
[391]
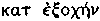 аспекте я укажу только, что подражание есть одно из главных средств для взаимопонимания; благодаря указанной выше ассоциации между внешним действием и лежащим в его основании процессом сознания подражание чужому действию нередко дает нам впервые ключ к его внутреннему пониманию, поскольку чувства, которые прежде вызывали это действие и у нас, впервые воспроизводятся путем такой психологической поддержки. В основании народного выражения, гласящего, что для того, чтобы понять образ действия другого, нужно сначала побыть в его шкуре, лежит глубокая психологическая правда, и подражание другому дает нам возможность побыть в его шкуре, по крайней мере, настолько, насколько оно означает частичное тождество с ним; что же касается того, насколько взаимопонимание уничтожает границы между людьми и как много оно дает для создания общего духовного достояния, то это не нуждается в разъяснении. Нет также никакого сомнения в том, что в огромном большинстве случаев мы обречены в нашей деятельности на подражание уже заранее найденным формам; это только не осознается нами, потому что не это интересует и нас, и других, а то, что в нас есть своеобразного и оригинального. Настолько же достоверно и то, что дух, движения которого скованы формами подражания, стоит нанизкой ступени, ибо при повсеместной тенденции к подражанию норму поведения образует то, что всего чаще встречается, что всего чаще требует подражания и что, следовательно, будет заполнено самым тривиальным содержанием. Если, таким образом, этот вид духовной жизни и должен по самому понятию своему, значительно преобладать, то все возрастающее стремление к дифференциации создало тем не менее такую форму, которая соединяет в себе все выгоды подражания и социального примыкания и в то же время всю привлекательность изменчивой дифференциации — моду22. В подражании моде во всех областях индивид является социальным существом*. Он избавлен от муки выбора23, ответственности за него перед другими; практическое удобство соединяется с уверенностью во всеобщем одобрении. Но так как по содержанию своему мода находится в состоянии постоянного изменения, то она удовлетворяет тем самым потребности в разнообразии и представляет дифференциацию в порядке последовательности; отличие сегодняшней моды от вчерашней и позавчерашней, сосредоточение направленного на нее сознания в одном пункте, который
аспекте я укажу только, что подражание есть одно из главных средств для взаимопонимания; благодаря указанной выше ассоциации между внешним действием и лежащим в его основании процессом сознания подражание чужому действию нередко дает нам впервые ключ к его внутреннему пониманию, поскольку чувства, которые прежде вызывали это действие и у нас, впервые воспроизводятся путем такой психологической поддержки. В основании народного выражения, гласящего, что для того, чтобы понять образ действия другого, нужно сначала побыть в его шкуре, лежит глубокая психологическая правда, и подражание другому дает нам возможность побыть в его шкуре, по крайней мере, настолько, насколько оно означает частичное тождество с ним; что же касается того, насколько взаимопонимание уничтожает границы между людьми и как много оно дает для создания общего духовного достояния, то это не нуждается в разъяснении. Нет также никакого сомнения в том, что в огромном большинстве случаев мы обречены в нашей деятельности на подражание уже заранее найденным формам; это только не осознается нами, потому что не это интересует и нас, и других, а то, что в нас есть своеобразного и оригинального. Настолько же достоверно и то, что дух, движения которого скованы формами подражания, стоит нанизкой ступени, ибо при повсеместной тенденции к подражанию норму поведения образует то, что всего чаще встречается, что всего чаще требует подражания и что, следовательно, будет заполнено самым тривиальным содержанием. Если, таким образом, этот вид духовной жизни и должен по самому понятию своему, значительно преобладать, то все возрастающее стремление к дифференциации создало тем не менее такую форму, которая соединяет в себе все выгоды подражания и социального примыкания и в то же время всю привлекательность изменчивой дифференциации — моду22. В подражании моде во всех областях индивид является социальным существом*. Он избавлен от муки выбора23, ответственности за него перед другими; практическое удобство соединяется с уверенностью во всеобщем одобрении. Но так как по содержанию своему мода находится в состоянии постоянного изменения, то она удовлетворяет тем самым потребности в разнообразии и представляет дифференциацию в порядке последовательности; отличие сегодняшней моды от вчерашней и позавчерашней, сосредоточение направленного на нее сознания в одном пункте, который
[392]
нередко отличается самым резким образом от предыдущего и последующего, изменения и переходы в ней, которые напоминают об отношениях, разногласиях и компромиссах между индивидуальностями, — все это заменяет для многих привлекательность индивидуально дифференцированного поведения и скрывает от их глаз тот низкий уровень, с которым они себя связывают.
Этим способом организации массы, поскольку последняя выступает как единство, легко объясняется одно явление, породившее самые рискованные социологические идеи. Действия общества отличаются, в противоположность действиям индивида, неколебимой постоянной надежностью и целесообразностью. Противоречивые ощущения, побуждения и мысли влекут индивида в разные стороны, и каждое мгновение духу его предоставляется множество возможностей действия, среди которых он не всегда с объективной правильностью или хотя бы с субъективной уверенностью умеет выбрать одну ; напротив, социальная группа всегда отдает себе ясный отчет в том, кого она считает своим другом и кого — врагом, и притом не столько в теоретическом отношении, сколько когда речь заходит о действовании. Между волением и действием, устремлением и достижением, средствами и целями общности разрыв меньше, чем между теми же моментами в области индивидуального. Это пытались объяснить тем, что движения массы в противоположность свободному индивиду определены естественными законами и следуют исключительно влечению ее интересов, ввиду чего здесь выбор и колебания возможны не более чем выбор и колебания масс материи ввиду действия силы тяготения. Целый ряд фундаментальных теоретико-познавательных неясностей скрывается за таким способом объяснения. Если даже мы согласимся, что действия массы как таковые в сравнении с действиями отдельных лиц особенно подчинены законам природы, то все-таки останется чудом то обстоятельство, что закон природы и целесообразность здесь всегда совпадают. Природа знает целесообразность только в той форме, что она механически порождает большое число продуктов, из которых потом случайно один может лучше других приспособиться к обстоятельствам и тем самым обнаруживает свою целесообразность. Но в природе нет такой области, в которой всякое порождение удовлетворяло бы с самого начала и безусловно известным телеологическим требованиям. Старое утверждение, согласно которому природа выбирает всегда кратчайший путь к своим целям, мы не можем уже признать ни в коем случае;
[393]
так как природа вообще не имеет никаких целей, то и пути ее относительно этих целей не могут быть охарактеризованы как долгие или краткие; поэтому неправильным будет и перенос этого принципа на отношение между социальными целями и средствами. Но и в рамках такого подхода невозможно серьезно утверждать, что выбор и заблуждения отдельных людей представляют собой исключение из всеобщей естественной каузальности; а если бы это и было так, и действование массы в противоположность индивиду было бы строго определено природой, то все-таки оставалось бы решить два вопроса: во-первых, не могут ли и в пределах чистой естественной каузальности иметь место выбор и колебание, а во-вторых, благодаря какой предустановленной гармонии именно в социальных стремлениях результат всегда совпадает с намерением. Хотя оба момента — воление и действование — определены законами природы, и даже именно потому, что это так, все-таки оставалось бы чудом, что результат действования вписывается как раз в контуры, которые воление очерчивает лишь идеально.
Между тем эти явления, поскольку их вообще можно констатировать, легко объясняются, если предположить, что цели, преследуемые публичным духом, гораздо более примитивны и просты, чем цели индивида; то, в чем сходится большое число людей, должно быть, в общем, адекватно, как мы указали выше, уровню того из них, кто стоит на низшей ступени. Оно может охватывать лишь первоначальные основы отдельных существований, над которыми потом уже должно подняться то, что в них более развито и тоньше дифференцировано. Это позволяет нам понять надежность как воления, так и достижения социальных целей. В той же мере, в какой отдельный человек неколебим и безошибочен в своих, самых примитивных целях, — настолько же неколебима и безошибочна в своих целях и социальная группа вообще. Обеспечение существования, приобретение нового владения, защита приобретенного, стремление к утверждению и расширению сферы своей власти, — таковы основополагающие влечения отдельного человека, для удовлетворения которых он может целесообразно вступить в союз с любым числом других людей. Так как отдельный человек не выбирает и не колеблется в этих своих принципиальных стремлениях, то и социальное стремление, которое их объединяет, чуждо выбору и колебаниям. К этому присоединяется то обстоятельство, что масса в своем целеполагании решает так же определенно и ведет себя также уверенно, как индивид в своих чисто эгоистических действиях; масса не знает того дуализма влечений
[394]
себялюбия и самоотверженности, заставляющего индивида беспомощно колебаться, так часто выбирать среднее между ними и в результате хвататься за пустоту. Что же касается того, что и достижение целей бывает безошибочнее и удачнее, чем у отдельного человека, то это вытекает из того факта — в настоящий момент он лежит в стороне от наших исследований, — что внутри целого между его частями образуются трения и помехи, от которых целое как таковое свободно, и далее из того, что примитивный характер социальных целей выражается не только в более простом качестве их содержания, но и в том, что они более очевидны; это значит, что общность не нуждается для достижения своих целей в тех обходных и потаенных путях, на которые так часто бывает вынужден ступить отдельный человек. Дело тут не в мистическом характере какой-то особой естественности, а только в том, что лишь при более высокой дифференциации целей и средств становится необходимым вставлять в телеологическую цепь все больше и больше промежуточных звеньев. То, в чем соединяется между собой множество дифференцированных существ, не может быть само столь же дифференцированным; и подобно тому как отдельный человек обычно не ошибается в тех сопряжениях целей, где исходный пункт и цель близки друг к другу, а также подобно тому как он достигает вернее всего тех целей, для которых достаточно первой инициативы во всей ее непосредственности, — точно так же и социальный круг, конечно, меньше будет подвержен ошибкам и неудачам, поскольку вследствие более простого содержания его целей они имеют только что указанный нами формальный характер24.
У более крупных групп, которые управляют ходом своего развития не на основании моментальных импульсов, но при помощи обширных и прочных, постепенно сложившихся учреждений, последние должны обладать известной широтой и объективным характером, чтобы предоставить одинаковое место, одинаковую защиту и покровительство всему множеству разнородных деятельностей. Эти учреждения не только должны быть более безошибочны, ибо за всякую ошибку при огромном числе зависящих отсюда отношений пришлось бы поплатиться самым тяжким образом, а потому ее следует с величайшей осторожностью избегать, но, кроме того, безотносительно к этой целесообразности они уже с самого начала окажутся особенно правильными, свободными от колебаний и односторонности уже потому, что они вообще образовались из столкновения противоположностей, борьбы интересов, взаимной притирки содер-
[395]
жащихся в данной группе различий. Для отдельного человека истина и надежность как в области теории, так и в области практики возникают благодаря тому, что субъективная максима, сначала односторонняя, сопрягается со множеством отношений; правильность какого-нибудь более общего представления состоит вообще лишь в том, что оно может быть проведено во многих и притом самых разнообразных случаях; всякая объективность возникает лишь из скрещения и взаимного ограничения отдельных представлений, из которых ни об одном самом по себе нельзя сказать, не есть ли оно лишь нечто субъективное; как э реальном, так и в теоретико-познавательном отношении преувеличение, ложная субъективность и односторонность исправляются не благодаря внезапному вмешательству какого-то совершенно инородного объективного, но лишь благодаря слиянию множества субъективных представлений, которые взаимно корригируют и парализуют односторонность друг друга и образуют таким образом объективное как некоторого рода концентрацию субъективного. Очевидно, что публичный дух образуется с самого начала на том пути, который сравнительно поздно приводит индивидуальный дух к правильности и надежности его содержаний. Именно потому, что такие совершенно разнородные интересы в одинаковой степени участвуют в общественных учреждениях и мероприятиях, последние должны находиться, так сказать, в точке безразличия всех этих противоположностей; они должны носить характер объективности, потому что субъективность каждого отдельного человека уже позаботится о том, чтобы субъективность другого не оказала на нее слишком большого влияния. Но в качестве общей основы (что особенно важно для настоящего исследования) и как общий результат испытания всевозможных тенденций и предрасположений деятельность группы должна обнаружить всеобъемлющую объективность и образовать то среднее, которое само по себе свободно от эксцентричности факторов. Этой надежности и этой возможности соответствуют, конечно, известный формализм и недостаток конкретного содержания в крупных сферах публичной жизни. Чем больше социальный круг, тем больше интересов скрещивается в нем и тем бесцветнее должны быть те определения, которые относятся к нему в целом и которые должны получить свое специальное и конкретное наполнение от более узких кругов и от индивидов. Итак, если генетически высшей и позднейшей и является лишь та ступень, на которой уровень общности может выступить как нечто объективно надежное и целесообразно определенное, то
[396]
все-таки и в этом отношении мы видим, что эти преимущества обусловлены низким уровнем его содержания.
Кажущаяся непогрешимость общности в противоположность отдельным людям может быть связана также и с тем, что ее представления и действия образуют норму, которая является меркой правильности или ошибочности представлений и действий индивида. В конце концов, у нас нет другого критерия истины, кроме возможности убедить в ней каждый достаточно развившийся дух. Формы, в которых это возможно, приобрели, конечно, постепенно, такую прочность и самостоятельность, что они в качестве логических и теоретико-познавательных законов ведут к субъективной убежденности в истине даже и там, где в отдельных случаях общность придерживается еще других убеждений; но и в этих случаях всегда должна быть налицо вера в то, что однажды и она проникнется этой убежденностью; суждение, относительно которого было бы установлено, что общность его никогда не признает, не имело бы характера истинности и для отдельного человека. Это относится и к правильности поведения; если мы вопреки всему свету убеждены в том, что поступаем правильно и нравственно, то в основании этого должна лежать вера в то, что более передовое общество, такое, которое будет лучше понимать, что ему действительно полезно, одобрит наш образ действий. В этой, хотя бы и бессознательной, ссылке на некую идеальную совокупность, на уровне которой лишь относительно случайно еще не стоит современное нам общество, мы черпаем силу и уверенность, что победят наши теоретические и практические убеждения, которые в данный момент являются еще совершенно индивидуальными. Уверенный в них индивид предвосхищает именно тот уровень общности, на котором станет общим достоянием то, что теперь дифференцировано.
Обоснование этих допущений лежит по существу в сфере практической. Индивид может достигнуть своих целей только путем присоединения к общности и при ее содействии, причем это настолько необходимо для него, что изолирование от нее отняло бы у него одновременно и во всех других отношениях все то, что он сознает как норму, как должное, и что там, где он все-таки себя ей противопоставляет, это происходит только благодаря индивидуальной комбинации норм, все же исходящих от совокупности, — комбинации, которая еще не реализована в самой совокупности, но которая без возможности такой реализации вообще не имела бы ценности. Каковы бы ни были родовые психологические мотивы, мне кажется несомненным, что в
[397]
 теоретическом и нравственном отношении субъективное чувство надежности совпадает с более или менее ясным сознанием согласия с некоторой совокупностью; при сплошном взаимодействии этих отношений спокойное удовлетворение, душевный штиль, источником которого является непоколебимость убеждений, находит себе объяснение именно в том, что убеждения являются только выражением согласия с совокупностью, того, что она является нашим носителем. Это позволяет нам понять своеобразную прелесть догматического как такового; то, что дается нам как определенное, несомненное и в то же время общезначимое, доставляет нам само по себе такое удовлетворение и такую внутреннюю опору, в сравнении с которыми содержание догмы является относительно безразличным. В этой форме абсолютной надежности, которая является только коррелятом согласия с совокупностью, заключается одна из главных притягательных сил католической церкви; предлагая индивиду учение, которое имеет значение * и от которого, собственно говоря, невозможно никакое уклонение — во всяком случае последнее является совершенно еретическим — Пий IX высказался прямо, сказав, что каждый человек в каком-нибудь смысле принадлежит к католической церкви, — она апеллирует в сильнейшей степени к социальному элементу в человеке и позволяет индивиду вместе с предметной определенностью веры одновременно обрести всю ту надежность, которую дает согласие с совокупностью; и наоборот, так как объективность и истинность совпадают с признанием таковых со стороны совокупности, то учение, относительно которого имеет место это признание, обеспечивает всю поддержку и все удовлетворение, сообщаемые первыми. Одно вполне заслуживающее доверия лицо рассказывало мне о беседе с одним из высших сановников католической церкви, в ходе которой последний сказал: «Самыми искренними и полезными приверженцами католической церкви всегда были те люди, которые совершили прежде тяжкий грех или впали в заблуждение». Это вполне понятно психологически. Тот, кто сильно заблуждался, в нравственной области или в теоретической, бросается в объятия всему, что кажется ему непогрешимой истиной; это значит, что субъективный индивидуалистический принцип оказался в его глазах настолько неудовлетворительным, что он ищет теперь тот уро-
теоретическом и нравственном отношении субъективное чувство надежности совпадает с более или менее ясным сознанием согласия с некоторой совокупностью; при сплошном взаимодействии этих отношений спокойное удовлетворение, душевный штиль, источником которого является непоколебимость убеждений, находит себе объяснение именно в том, что убеждения являются только выражением согласия с совокупностью, того, что она является нашим носителем. Это позволяет нам понять своеобразную прелесть догматического как такового; то, что дается нам как определенное, несомненное и в то же время общезначимое, доставляет нам само по себе такое удовлетворение и такую внутреннюю опору, в сравнении с которыми содержание догмы является относительно безразличным. В этой форме абсолютной надежности, которая является только коррелятом согласия с совокупностью, заключается одна из главных притягательных сил католической церкви; предлагая индивиду учение, которое имеет значение * и от которого, собственно говоря, невозможно никакое уклонение — во всяком случае последнее является совершенно еретическим — Пий IX высказался прямо, сказав, что каждый человек в каком-нибудь смысле принадлежит к католической церкви, — она апеллирует в сильнейшей степени к социальному элементу в человеке и позволяет индивиду вместе с предметной определенностью веры одновременно обрести всю ту надежность, которую дает согласие с совокупностью; и наоборот, так как объективность и истинность совпадают с признанием таковых со стороны совокупности, то учение, относительно которого имеет место это признание, обеспечивает всю поддержку и все удовлетворение, сообщаемые первыми. Одно вполне заслуживающее доверия лицо рассказывало мне о беседе с одним из высших сановников католической церкви, в ходе которой последний сказал: «Самыми искренними и полезными приверженцами католической церкви всегда были те люди, которые совершили прежде тяжкий грех или впали в заблуждение». Это вполне понятно психологически. Тот, кто сильно заблуждался, в нравственной области или в теоретической, бросается в объятия всему, что кажется ему непогрешимой истиной; это значит, что субъективный индивидуалистический принцип оказался в его глазах настолько неудовлетворительным, что он ищет теперь тот уро-
[398]
вень, на котором согласие с совокупностью даст ему надежность и спокойствие.
Между тем невыгодная сторона такого преимущества состоит не только в том, что социологический уровень, как показано выше, чтобы быть доступным всем, должен быть настолько низок, что высшие вынуждены спуститься гораздо больше в сравнении с тем, насколько он поднимает низших; помимо этого освобождение от индивидуальной ответственности и инициативы приводит к тому, что пропадают без дела нужные для этого силы, причем оно сообщает индивиду беззаботную уверенность25, задерживающую заострение и формирование его склонностей. В царстве птиц мы находим тому замечательные примеры; рассказывают об австралийских лорикетах, туканах и об американских голубях, что они ведут себя очень глупо и неосторожно, когда летят большими стаями, и, наоборот, обнаруживают пугливость и смышленость, когда держатся по одиночке. Каждая отдельная птица, полагаясь на своих товарищей, избавляет себя от некоторых высших индивидуальных функций, но от этого в конце концов страдает и уровень совокупности.