личность и эпоха, личность и гражданское общество
А. И. ГЕРЦЕН
Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил — как дева, бог весть c чего зачавшая, нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судеб, бичом, палачом божиим — надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли...
Для нас существует один голос и одна власть — власть разума и понимания.
Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации.
Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, c своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и c недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию...
Народ — консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его идеал — буржуазное довольство так, как идеал Атта Тролля у Гейне был абсолютный белый медведь [37]. Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он вколочен — он верит в их прочность и обеспеченье. Не понимая, что эту прочность он-то им и дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах. Пророки, провозглашавшие социальный переворот анабаптизма, облачились в архиерейские ризы. Пугачев для низложения немецкого дела Петра сам назвался Петром, да еще самым немецким, и окружил себя андреевскими кавалерами из казаков и разными псевдо-Воронцовыми и Чернышевыми.
37 В поэме Г. Гейне «Атта Тролль» медведь Атта Тролль (в котором Гейне сатирически изобразил немецких мелкобуржуазных радикалов) представляет себе бога — творца мира в виде огромного снежно-белого медведя.
Государственные формы, церковь и суд выполняют овраг между непониманием масс и односторонней цивилизацией вершин. Их сила и размер — в прямом отношении c неразвитием их. Взять неразвитие силой невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоца, оставленные на себя, не удержались, а вандейство надобно было годы вырубать из жизни. Террор так же мало уничтожает предрассудки, как завоевания — народности. Страх вообще вгоняет внутрь, бьет формы, приостанавливает их отправление и не касается содержания. Иудеев гнали века — одни гибли, другие прятались... и после грозы являлись и богаче, и сильнее, и тверже в своей вере.
Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.
В сущности, все формы исторические — volens-nolens [38] — ведут от одного освобождения к другому. Гегель в самом рабстве находит (и очень верно) шаг к свободе [39]. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить c себя, как грязное рубище, до известного возраста.
38 Volens nolens (лат.) — хочешь не хочешь.
39 В «Философии истории» Гегель, рассматривая рабство как несправедливое состояние, вместе c тем утверждал, что оно является необходимым моментом для перехода к более высокой ступени развития общества.
Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется c обстоятельствами и прилаживается к потребностям. Государство везде начинается c полного порабощения лица — и везде стремится, перейдя известное развитие, к полному освобождению его. Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший. Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет высшую правду своего времени — и тогда он поглощает лучших людей; за него льется кровь и ведутся войны — потом он делается ложью и, наконец, воспоминанием... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции — тому, c чьей стороны сила...
Герцен А. И. К старому товарищу // Собрание сочинений: В. 30 т. М., I960. Т. 20(2). С. 588 — 590
[Герцен А. И. К старому товарищу // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч.Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 244-246]
Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим c рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения c рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды.
Но тут в самом образе отражения является его самобытность. Противудействие, возбуждаемое в человеке окружающим, — ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так, как полон противуречия. Нравственная независимость человека — такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, c тою разницей, что она c ней в обратном отношении: чем больше сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь c средою теснее, тем больше среда поглощает лицо. Так инстинкт, без сознания, не достигает истинной независимости, а самобытность является или как дикая свобода зверя, или в тех редких судорожных и непоследовательных отрицаниях той или другой стороны общественных условий, которые называют преступлениями.
Сознание независимости не значит еще распадение c средою, самобытность не есть еще вражда c обществом. Среда не всегда относится одинаким образом к миру и, следственно, не всегда вызывает со стороны лица отпор.
Есть эпохи, когда человек свободен в общем деле. Деятельность, к которой стремится всякая энергическая натура, совпадает тогда c стремлением общества, в котором она живет. В такие времена — тоже довольно редкие — все бросается в круговорот событий, живет в нем, страдает, наслаждается, гибнет.
Герцен А. И. С того берега // Собрание сочинений. В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 14, 66. 120
[Герцен А. И. С того берега // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 246]
Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ
Одним принципом гражданского общества является конкретная личность, которая служит для себя целью как особенная, как целокупность потребностей и смесь природной необходимости и произвола, — но особенное лицо, как существенно находящееся в соотношении c другой такой особенностью, так что оно заявляет свои притязания и удовлетворяет себя лишь как опосредствованное другим особым лицом и вместе c тем как всецело опосредствованное формой всеобщности — другим принципом гражданского общества.
Прибавление. Гражданское общество есть разъединение, которое появляется посредине между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства, так как в качестве разъединения оно предполагает наличность государства, которое оно должно иметь перед собою как нечто самостоятельное, чтобы существовать. Гражданское общество создалось, впрочем, лишь в современном мире, который один только воздает свое каждому определению идеи. Когда государство представляют как единство различных лиц, как единство, которое есть лишь общность, то этим разумеют лишь определение гражданского общества. Многие новейшие государство-веды не могли додуматься до другого воззрения на государство. В гражданском обществе каждый для себя — цель, все другие суть для него ничто. Но без соотношения c другими он не может достигнуть объема своих целей; эти другие суть потому средства для целей особенного. Но особенная цель посредством соотношения c другими дает себе форму всеобщности и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе c тем благо других. Так как особенность связана c условием всеобщности, то целое есть почва опосредствования, на которой дают себе свободу все частности, все случайности рождения и счастья, в которую вливаются волны всех страстей, управляемых лишь проникающим в них сиянием разума. Особенность, ограниченная всеобщностью, есть единственная мера (Мая), при помощи которой всякая особенность способствует своему благу...
Таким образом, себялюбивая цель, обусловленная в своем осуществлении всеобщностью, обосновывает систему всесторонней зависимости, так что пропитание и благо единичного лица и его правовое существование переплетены c пропитанием, благом и правом всех, основаны на них и лишь в этой связи действительны и обеспечены. Можно рассматривать эту систему ближайшим образом как внешнее государство, — как основанное на нужде государство рассудка.
Гегель. Философия права // Сочинения. М., Л., 1934. Т. 7 С. 211 — 212
[Гегель. Философия права // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 243-244]
Роль личности в истории
С. Н. ТРУБЕЦКОЙ
Пусть наше знание социологических законов спорно и шатко, — вряд ли возможно отрицать известную органическую цельность в самом историческом процессе, или известное разумное, логическое единство в преемстве и развитии общечеловеческих знаний и культурных начал. И, несомненно, что в обоих случаях такое единство зависит не от одного давления внешних причин, но от внутренних связей, от самой природы человеческого сознания. Рассматривая исторический процесс в его целом, точно так же, как и в отдельные великие эпохи, мы находим, что мировые идеи, определявшие его течение, имеют сверхличную, положительную объективность: это как бы общие начала, воплощающиеся в истории; мы видим, что великие события и перевороты не объяснимы из частных, индивидуальных действий, интересов и влечений, из случайных, единичных поступков, но что они определяются общими массовыми движениями, иногда совершенно стихийными, общим сознанием, общими инстинктами и потребностями.
Мы не хотим отрицать роли личности в истории; мы полагаем, напротив того, что личность может иметь, и действительно имеет, в ней общее значение. В известном смысле все совершается в истории личностью и через личность: только в ней воплощается идея. Но именно поэтому универсальное значение личности и нуждается в объяснении. Ибо ее влияние не ограничивается одною чисто отрицательной способностью исключать себя из общего дела, тормозить его по мере присвоенной ей силы и власти: есть личности, способные представлять общие интересы и идеи и управлять людьми во имя общих начал, вести, учить и просвещать их. Эти-то способности, которыми обладают исторические личности, истинные деятели и учителя человечества, нуждаются в объяснении.
Прежде всего историческая личность есть продукт своего общества; она образуется им, проникается его общими интересами. Она представляет его органически, воплощает, c редоточивает в себе известные его стремления, а постольку может и сознать их лучше, чем другие, и найти путь к разрешению назревших исторических задач. Часто люди заурядных или односторонних способностей, в силу обстоятельств, в силу исключительного высокого положения, которое им достается в удел, бывают призваны играть роль великого человека. Иногда это им удается при некоторой восприимчивости и энергии, усиленной сознанием власти, нередко даже самою скудостью мысли и отсутствием оригинальности. Ибо когда известные исторические задачи назрели, когда общественные потребности, частью сознаваемые, частью еще не сознанные отдельными умами, достигают известной интенсивности, когда общественная воля c прогрессивно возрастающею силою тяготеют в определенном направлении, — она естественно ищет наиболее приспособленный орган как для своего выражения, так и для своего осуществления. И она, естественно, стремится к органическому средоточию общества, к представителям его власти, дабы внушить им известную задачу, если не определенное решение. Историк знает, как много у народной общественной воли есть различных способов выражения и действия, как полно и разнообразно высказывается она в самых мелочах жизни, еще не сознанная, не овладевшая собою, еще не решившаяся, но как бы ищущая решения и предчувствующая его. Она проявляется инстинктивно, иногда безотчетно, сама не понимая смысла этих проявлений, которые в своей сложности создают общую атмосферу, общее давление, иногда переходящее из скрытого состояния в действие.
Не следует, однако, ослеплять себя насчет могущества общей воли, ее развития и ее непосредственного влияния на центральные органы. Ошибочно думать, что, помимо всякой политической организации, народное сознание может всегда непосредственно вдохновлять правителей путем магического умственного внушения. Ибо прежде всего никакое социальное тело не обладает достаточной солидарностью: и атомы, его составляющие, и центральные его органы проявляют значительное взаимное трение; во-вторых, правительство, вдохновляющееся одними темными инстинктами масс, едва ли будет на высоте своих задач и сумеет возвыситься над случайной политикой. Там, где народная интеллигенция не организована или дезорганизована, народное тело может испытывать нужды и потребности, без того чтобы вызвать соответственные действия центральных органов. Там, где отсутствует всякая организация общего сознания, где оно, как у низших животных, рассеяно бессвязными узлами по всему общественному телу, не собираясь к центральным органам, там господствуют лишь элементарные социальные и государственные инстинкты, которые хотя и обусловливают крепость и нравственную цельность государства, но сами по себе все еще недостаточны для того, чтобы справляться со сложными политическими задачами и вопросами. Человек не может жить без элементарных органических отправлений, не может обойтись без инстинктов; но он не был бы человеком, если бы жил одною животною, бессловесною жизнью. Так точно и государство не может довольствоваться тем мощным инстинктом самосохранения, тем стихийным единством сознания, которое обнаруживает народ в годины бедствий или минуты необычайного энтузиазма. Сила государства — в его жизненных принципах, во внутреннем единстве духа, которое обусловливает его политический и культурный строй. Но народная воля не должна пребывать навсегда бессознательной, импульсивной, и народная мудрость — бессловесным инстинктом, который выражается в судорожных рефлексах и диких воплях. Если народ есть живое существо, то это организм высшего порядка, члены которого обладают разумной природой. И вот почему существенной задачей каждого государства является просвещение народа и образование его интеллигенции.
Таким образом и здесь, в социологической области, сознание прогрессирует вместе c организацией и предполагает ее. В силу этой социальной организации, этой живой солидарности общественного тела личность может органически представлять его как в совокупности его частей, так и в отдельных отраслях его жизни. При этом самое представительство может быть сознательным и свободным или же бессознательным, непосредственным; оно может обладать постоянною, прогрессивно-совершенствующейся организацией или же не иметь никакой политической организации, а следовательно, и никакого нормального политического значения.
Итак, в той или другой форме личность представляет свое общество и свою эпоху. Но этим еще не исчерпывается ее значение. Ибо если бы личность служила только выражению известных общественных стремлений, пассивным органом собирательной воли и сознания, то она не могла бы оказывать существенного влияния на ход событий и на развитие своего общества. Если бы она могла только подводить итоги общего сознания, только представлять свое общество, она не могла бы им править, учить, исправлять его. Но тогда никакое правительство, никакая государственная или общественная власть не имела бы другого авторитета и основания, кроме насилия. Вместе c тем не было бы и реального общественного прогресса: отражаясь в своих отдельных представителях, общество оставалось бы неподвижным.
На деле личность имеет в самом обществе самобытное значение и безусловное достоинство, помимо того общества, которое она собою представляет. Если существует положительный прогресс в какой бы то ни было отрасли жизни, если развивается общество, наука, искусство, религия, то личность может и должна вносить c собою нечто безусловное в свое общество — свою свободу, без которой нет ни права, ни власти, ни познания, ни творчества. И помимо унаследованных традиционных начал, человек должен в свободе своего сознания логически мыслить и познавать подлинную истину, вселенскую правду и осуществлять ее в своем действии. Помимо своих частных верований, временных и местных идеалов, он должен в самых общеродовых формах своего сознания вмещать безусловное содержание, высший вселенский идеал. И так или иначе, определяясь все яснее и полнее, этот идеал всеобщей правды и добра является точкой опоры, руководящею целью всякого благого дела, высшего прогресса культуры и знания. Как мы видели в предшествовавшей главе, без усвоения этого объективного идеала никакое развитие немыслимо вовсе. Но идеал не может быть усвоен без личного, свободного усилия.
Искусство, наука, философия развиваются в каждом народе в связи c его общей культурой и верованиями. Но поскольку они имеют в себе объективное содержание, заключают в себе постепенное раскрытие объективной истины и красоты, они имеют самостоятельную историю. Ибо в истине и красоте объединяются народы. Чтобы сделать научное открытие или построить философскую систему, мало народной мудрости: нужна истина, как для художника — подлинная красота, и нужно свободное усилие личного гения. Чтобы преобразовывать общество, учить его, способствовать так или иначе его развитию и нравственному улучшению, нужен не только патриотизм, но и ясное сознание правды и добра, крепкая вера в высший идеал. И вот почему для мыслителя и художника, для религиозного и политического преобразователя всеобщий, истинный идеал не всегда таков, как он признается в его среде.
Впрочем, всякий культурный и религиозный народ признает объективный идеал, объективную правду; каждый такой народ признает некоторые общие нормы, долженствующие лежать в основе человеческих отношений и религиозного культа. И для того чтобы нормы эти соблюдались, он признает над собою необходимость духовной и государственной власти, по возможности и независимой и справедливой. В этих объективных нормах, в законе человеческого общежития заключается право на власть; в идеале всеобщей правды — ее высшая нравственная санкция. Итак, признавая общий, необходимый характер исторических событий и внутреннее, разумное единство общего течения истории, мы в то же время признаем за личностью способность представлять свое общество и управлять им. Понятие о первоначальном родовом единстве, об органической коллективности сознания не отрицает, а объясняет нам эту провиденциальную роль личности в истории. Ибо то, что приобретено личностью, становится достоянием рода в силу ее органической солидарности c ним; дело личности, ее подвиг и творчество имеют общее значение, помимо своих внешних, непосредственных результатов. c другой стороны, индивидуальная личность может усвоить вещать вселенский идеал, познавать всеобщую истину лишь в универсальных, родовых формах человеческого сознания. Только в своей органической солидарности c родом отдельная личность обладает такими формами. И вместе c тем в своей свободной, индивидуальной самодеятельности она возвышается над своею врожденною природою, наполняет свое потенциальное сознание идеальным содержанием. Чтобы осуществиться в действительности, идеал предполагает в ней универсальные формы и свободный акт, без которого он не может быть усвоен.
Рассматривая мировой процесс, мы видим, как трудно и медленно зарождалась человеческая личность, как туго развивалось ее самосознание. Несмотря на весь эгоизм человеческой природы, самое понятие личности, личных прав, личной собственности и свободы, — все эти понятия возникают и развиваются на наших глазах. И вместе c их развитием, c развитием личного самосознания пробуждается сознание внутреннего противоречия жизни, противоречия личности и рода, свободы и природы. Это противоречие обусловливает собою не одни разногласия философских школ, но глубокий коренной разлад человеческой жизни. Его корень лежит не в умствованиях философов, а в самой действительности, в самой природе вещей, ибо вся действительность представляет нам борьбу этих начал, и в философии мы находим лишь отражение этой борьбы, лишь сознание мирового противоречия.
В философии только оно не может быть разрешено, именно потому, что оно есть действительное противоречие, требующее не теоретического, но и практического решения. Простая ссылка на недостигнутый идеал, в котором противоречия от века примирены, в котором осуществлено конкретное единство конечного и бесконечного, свободы и природы, личности и вселенной, — указание такого идеала само по себе еще недостаточно: во-первых, потому, что из такого отвлеченно-признанного идеала никогда не возможно вывести или понять c достаточной полнотою действительного эмпирического порядка вещей со всеми его противоположностями; во-вторых, потому, что осуществление такого идеала все-таки остается задачей, которая не подлежит теоретическому разрешению. Всякое умозрительное решение есть и должно быть только приблизительным, потому что это только предугадываемое, чаемое решение. И всякий раз, как философия забывает эту спекулятивную природу, отвлеченность своего идеала, она либо предполагает его осуществленным в действительности и, закрывая глаза на ее противоречия, сама впадает в них, либо же она отчаивается в самом идеале, в его вечной действительности и осуществимости.
Мы говорили уже об этом роковом противоречии, которое c глубокой древности тревожит умы, которое уже Аристотель сознал как безысходную задачу онтологии — противоречие между родом и индивидом. В действительности один не может быть без другого; но в то же время и тот и другой претендуют на исключительную действительность, вместе ни тот ни другой не имеют истинной действительности. Индивиды преходящи, один род пребывает; но вне индивидов — это призрачная отвлеченность. Люди умирают, человечество бессмертно: «нет ничего реальнее человечества». И в то же время нет ничего «идеальнее»: человечество как существо, как действительный организм не существует вовсе. Оно не составляет не только одного тела, но даже одного солидарного общества. Только отдельные люди суть реальные организмы, но эти «реальные существа» все преходящи и смертны, не обладая пребывающей действительностью.
Как же примиримо это противоречие? Может ли человечество стать таким же реальным и солидарным организмом, как один человек, может ли оно стать одним бессмертным человеком? И могут ли отдельные индивиды, составляющие человечество, приобрести в нем бессмертие? До тех пор, очевидно, противоречие непримиримо. Очевидно также, что сам по себе человек не может его примирить и если когда-нибудь он искал такого примирения, то не иначе как на практически-религиозной почве, в том или другом церковном, богочеловеческом организме.
Трубецкой С. Н. О природе человеческого сознания // Вопросы философии и психологии. 1891. № 2. С. 149 — 155
[Трубецкой С. Н. О природе человеческого сознания // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 247-251]
Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ
Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера, его желаниям и его произволу и таким образом сам наслаждается своим существованием. Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия противоположности. Рефлексия в себе, эта свобода является вообще абстрактно формальным моментом деятельности абсолютной идеи. Деятельность есть средний термин заключения, одним из крайних терминов которого является общее, идея, пребывающая в глубине духа, а другим — внешность вообще, предметная материя. Деятельность есть средний термин, благодаря которому совершается переход общего и внутреннего к объективности.
Я попытаюсь пояснить и сделать более наглядным сказанное выше некоторыми примерами.
Постройка дома прежде всего является внутренней целью и намерением. Этой внутренней цели противополагаются как средства отдельной стихии, как материал — железо, дерево, камни. Стихиями пользуются для того, чтобы обработать этот материал: огнем для того, чтобы расплавить железо, воздухом для того, чтобы раздувать огонь, водою для того, чтобы приводить в движение колеса, распиливать дерево и т.д. В результате этого в построенный дом не могут проникать холодный воздух, потоки дождя, и, поскольку он огнеупорен, он не подвержен гибельному действию огня. Камни и бревна подвергаются действию силы тяжести, давят вниз, и посредством их возводятся высокие стены. Таким образом стихиями пользуются сообразно c их природой, и благодаря их совместному действию образуется продукт, которым они ограничиваются. Подобным же образом удовлетворяются страсти: они разыгрываются и осуществляют свои цели сообразно своему естественному определению и создают человеческое общество, в котором они дают праву и порядку власть над собой. Далее, из вышеуказанного соотношения вытекает, что во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения. Как на подходящий пример можно указать на действия человека, который из мести, может быть справедливой, т.е. за несправедливо нанесенную ему обиду, поджигает дом другого человека. Уже при этом обнаруживается связь непосредственного действия c дальнейшими обстоятельствами, которые, однако, сами являются внешними и не входят в состав вышеупомянутого действия, поскольку оно берется само по себе в его непосредственности. Это действие, как таковое, состоит, может быть, в поднесении огонька к небольшой части бревна. То, что еще не было сделано благодаря этому, делается далее само собой: загоревшаяся часть бревна сообщается c его другими частями, бревно — со всеми балками дома, а этот дом — c другими домами, и возникает большой пожар, уничтожающий имущество не только тех лиц, против которых была направлена месть, но и многих других людей, причем пожар может даже стоить жизни многим людям. Это не заключалось в общем действии и не входило в намерения того, кто начал его. Но кроме того, действие содержит в себе еще дальнейшее общее определение: соответственно цели действующего лица действие являлось лишь местью, направленной против одного индивидуума и выразившейся в уничтожении его собственности; но кроме того, оно оказывается еще и преступлением, и в нем содержится наказание за него. Виновник, может быть, не сознавал и еще менее того желал этого, но таково его действие в себе, общий субстанциальный элемент этого действия, который создается им самим. В этом примере следует обратить внимание именно только на то, что в непосредственном действии может заключаться нечто, выходящее за пределы того, что содержалось в воле и в сознании виновника. Однако, кроме того, этот пример свидетельствует еще и о том, что субстанция действия, а следовательно, и самое действие вообще обращается против того, кто совершил его; оно становится по отношению к нему обратным ударом, который сокрушает его. Это соединение обеих крайностей, осуществление общей идеи в непосредственной действительности и возведение частности в общую истину совершается прежде всего при предположении различия обеих сторон и их равнодушия друг к другу. У действующих лиц имеются конечные цели, частные интересы в их деятельности, но эти лица являются знающими, мыслящими. Содержание их целей проникнуто общими, существенными определениями права, добра, обязанности и т.д. Ведь простое желание, дикость и грубость хотения лежат вне арены и сферы всемирной истории. Эти общие определения, которые в то же время являются масштабом для целей и действий, имеют определенное содержание. Ведь такой пустоте, как добро ради добра, вообще нет места в живой действительности. Если хотят действовать, следует не только желать добра, но и знать, является ли то или иное добром. А то, какое содержание хорошо или нехорошо, правомерно или неправомерно, определяется для обыкновенных случаев частной жизни в законах и нравах государства...
...Исторических людей следует рассматривать по отношению к тем общим моментам, которые составляют интересы, а таким образом и страсти индивидуумов. Они являются великими людьми именно потому, что они хотели и осуществили великое и притом не воображаемое и мнимое, а справедливое и необходимое. Этот способ рассмотрения исключает и так называемое психологическое рассмотрение, которое, всего лучше служа зависти, старается выяснять внутренние мотивы всех поступков и придать им субъективный характер, так что выходит, как будто лица, совершавшие их, делали все под влиянием какой-нибудь мелкой или сильной страсти, под влиянием какого-нибудь сильного желания и что, будучи подвержены этим страстям и желаниям, они не были моральными людьми. Александр Македонский завоевал часть Греции, а затем и Азии, следовательно, он отличался страстью к завоеваниям. Он действовал, побуждаемый любовью к славе, жаждой к завоеваниям; а доказательством этого служит то, что он совершил такие дела, которые прославили его. Какой школьный учитель не доказывал, что Александр Великий и Юлий Цезарь руководились страстями и поэтому были безнравственными людьми? Отсюда прямо вытекает, что он, школьный учитель, лучше их, потому что у него нет таких страстей, и он подтверждает это тем, что он не завоевывает Азии, не побеждает Дария и Пора, но, конечно, сам хорошо живет и дает жить другим. Затем эти психологи берутся преимущественно еще и за рассмотрение тех особенностей великих исторических деятелей, которые свойственны им как частным лицам. Человек должен есть и пить, у него есть друзья и знакомые, он испытывает разные ощущения и минутные волнения. Известна поговорка, что для камердинера не существует героя; я добавил, — а Гете повторил это через десять лет, — но не потому, что последний не герой, а потому что первый — камердинер. Камердинер снимает c героя сапоги, укладывает его в постель, знает, что он любит пить шампанское и т.д. Плохо приходится в историографии историческим личностям, обслуживаемым такими психологическими камердинерами; они низводятся этими их камердинерами до такого же нравственного уровня, на котором стоят подобные тонкие знатоки людей, или, скорее, несколькими ступеньками пониже этого уровня. Терсит у Гомера, осуждающий царей, является бессмертной фигурой всех эпох. Правда, он не всегда получает побои, т.е. удары крепкой палкой, как это было в гомеровскую эпоху, но его мучат зависть и упрямство; его гложет неумирающий червь печали по поводу того, что его превосходные намерения и порицания все-таки остаются безрезультатными. Можно злорадствовать также и по поводу судьбы терситизма.
Всемирно-исторической личности не свойственна трезвенность, выражающаяся в желании того и другого; она не принимает многого в расчет, но всецело отдается одной цели. Случается также, что такие личности обнаруживают легкомысленное отношение к другим великим и даже священным интересам и, конечно, подобное поведение подлежит моральному осуждению. Но такая великая личность бывает вынуждена растоптать иной невинный цветок, сокрушить многое на своем пути.
Итак, частный интерес страсти неразрывно связан c обнаружением всеобщего, потому что всеобщее является результатом частных и определенных интересов и их отрицания. Частные интересы вступают в борьбу между собой, и некоторые из них оказываются совершенно несостоятельными. Не всеобщая идея противополагается чему-либо и борется c чем-либо; не она подвергается опасности; она остается недосягаемою и невредимою на заднем плане. Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред. Ибо речь идет о явлении, часть которого ничтожна, а часть положительна. Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов.
Гегель. Философия истории // Сочинения. M.; Л. , 1935. Т. 8. C. 25-28, 30-32
[Гегель. Философия истории // Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 240-243]
ПЛЕХАНОВ Г. В.
Зиммель говорит, что свобода есть всегда свобода от чего-нибудь и что там, где свобода не мыслится как противоположность связанности, она не имеет смысла. Это, конечно, так. Но на основании этой маленькой азбучной истины нельзя опровергнуть то положение, составляющее одно из гениальнейших открытий, когда-либо сделанных философской мыслью, что свобода есть сознанная необходимость. Определение Зиммеля слишком узко: оно относится только к свободе от внешнего стеснения. Пока речь идет лишь о таких стеснениях, отождествление свободы с необходимостью было бы до последней степени комично: вор не свободен вытащить у вас из кармана носовой платок, если вы мешаете ему сделать это и пока он не преодолел так или иначе вашего сопротивления. Но кроме этого элементарного и поверхностного понятия о свободе есть другое, несравненно более глубокое. Это понятие совсем не существует для людей, неспособных к философскому мышлению, а люди, способные к такому мышлению, доходят до него только тогда, когда им удается разделаться с дуализмом и понять, что между субъектом, с одной стороны, и объектом — с другой, вовсе не существует той пропасти, какую предполагают дуалисты.
Русский субъективист противопоставляет свои утопические идеалы нашей капиталистической действительности и не идет дальше такого противопоставления. Субъективисты завязли в болоте дуализма. Идеалы так называемых русских «учеников»1 несравненно менее похожи на капиталистическую действительность, чем идеалы субъективистов. Но, несмотря на это, «ученики» сумели найти мост, соединяющий идеалы с действительностью. «Ученики» возвысились до монизма. По их мнению, капитализм ходом своего собственного развития приведет к своему собственному отрицанию и к осуществлению их — русских, да и не одних только русских, «учеников» — идеалов. Это историческая необходимость. Он, «ученик», служит одним из орудий этой необходимости и не может не служить им как по своему общественному положению, так и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этим положением Это тоже сторона необходимости. Но раз его общественное
 положение выработало у него именно этот, а не другой характер,
положение выработало у него именно этот, а не другой характер, 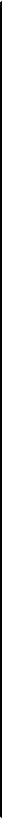
 он не только служит орудием необходимости и не только не может не служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это — сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т. е., вернее сказать, это — свобода, отождествившаяся с необходимостью, это — необходимость, преобразившаяся в свободу *. Такая свобода есть тоже свобода от некоторого стеснения; она тоже противоположна некоторой связанности: глубокие определения не опровергают поверхностных, а, дополняя их, сохраняют их в себе. Но о каком же стеснении, о какой связанности может идти речь в этом случае? Это ясно: о том нравственном стеснении, которое тормозит энергию людей, не разделавшихся с дуализмом; о той связанности, от которой страдают люди, не умевшие перекинуть мост через пропасть, разделяющую идеалы от действительности. Пока личность не завоевала этой свободы мужественным усилием философской мысли, она еще не вполне принадлежит самой себе и своими собственными нравственными муками платит позорную дань противостоящей ей внешней необходимости. Но зато та же личность родится для новой, полной, до тех пор ей неведомой жизни, едва только она свергнет с себя иго этого мучительного и постыдного стеснения, и ее свободная деятельность явится сознательным и свободным выражением необходимости**. Тогда она становится великой общественной силой, и тогда уже ничто не может помешать ей и ничто не помешает
он не только служит орудием необходимости и не только не может не служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это — сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т. е., вернее сказать, это — свобода, отождествившаяся с необходимостью, это — необходимость, преобразившаяся в свободу *. Такая свобода есть тоже свобода от некоторого стеснения; она тоже противоположна некоторой связанности: глубокие определения не опровергают поверхностных, а, дополняя их, сохраняют их в себе. Но о каком же стеснении, о какой связанности может идти речь в этом случае? Это ясно: о том нравственном стеснении, которое тормозит энергию людей, не разделавшихся с дуализмом; о той связанности, от которой страдают люди, не умевшие перекинуть мост через пропасть, разделяющую идеалы от действительности. Пока личность не завоевала этой свободы мужественным усилием философской мысли, она еще не вполне принадлежит самой себе и своими собственными нравственными муками платит позорную дань противостоящей ей внешней необходимости. Но зато та же личность родится для новой, полной, до тех пор ей неведомой жизни, едва только она свергнет с себя иго этого мучительного и постыдного стеснения, и ее свободная деятельность явится сознательным и свободным выражением необходимости**. Тогда она становится великой общественной силой, и тогда уже ничто не может помешать ей и ничто не помешает
Над неправдою лукавою
Грянуть божьего грозой...
III
Еще раз: сознание безусловной необходимости данного явления может только усилить энергию человека, сочувствующего ему и считающего себя одной из сил, вызывающих это явление. Если бы такой человек сложил руки, сознав его необходимость, он показал бы этим, что плохо знает арифметику. В самом деле, положим, что явление А необходимо должно наступить, если окажется налицо данная сумма условий 8. Вы доказали мне, что эта сумма частью уже есть в наличности, а частью будет в данное время Т. Убедившись в этом, я, — человек, страстно сочувствующий явлению А,— восклицаю: «Как это хорошо!», и заваливаюсь сдать вплоть до радостного дня предсказанного вами события. Что же выйдет из этого? Вот что. В вашем расчете в сумму S, необходимую для того, чтобы совершилось явление А, входила также и моя деятельность, равная, положим, а. Так как я погрузился в спячку, то в момент Т сумма условий, благоприятных наступлению данного явления, будет уже не &, но S— а, что изменяет состояние дела. Может быть, мое место займет другой человек, который тоже был близок к бездействию, но на которого спасительно повлиял пример моей апатии, показавшейся ему крайне возмутительной. В таком случае сила а будет замещена силой b, и если а равно b (а ==b), то сумма условий, способствующих наступлению А, останется равной S, и явление А все-таки совершится в тот же самый момент Т.
Но если мою силу нельзя признать равной нулю, если я ловкий и способный работник и если меня никто не заменил, то у нас уже не будет полной суммы S, и явление А совершится позже, чем мы предполагаем, или не в той полноте, какой мы ожидали, или даже совсем не совершится. Это ясно, как день, и если я не понимаю этого, если я думаю, что S останется S и после моей измены, то единственно потому, что не умею считать. Да и один ли я не умею считать? Вы, предсказывавший мне, что сумма S непременно будет налицо в момент Т, не предвидели, что я лягу спать сейчас же после моей беседы с вами; вы были уверены, что я до конца останусь хорошим работником; вы приняли менее надежную силу за более надежную. Следовательно, вы тоже плохо сосчитали. Но предположим, что вы ни в чем не ошиблись, что вы все приняли в соображение. Тогда ваш расчет примет такой вид: вы говорите, что в момент Т сумма S будет налицо. В эту сумму условий войдет, как отрицательная величина, моя измена; сюда же войдет, как величина положительная, и то ободряющее действие, которое производит на людей, сильных духом, уверенность в том, что их стремления и идеалы являются субъективным выражением объективной необходимости. В таком случае сумма S действительно окажется налицо в означенное вами время, и явление А совершится. Кажется, что это ясно. Но если ясно, то почему же, собственно, меня смутила мысль о неизбежности явления А? Почему мне показалось, что она осуждает меня на бездействие? Почему, рассуждая о ней, я позабыл самые простые правила арифметики? Вероятно, потому, что по обстоятельствам моего воспитания у меня уже было сильнейшее стремление к бездействию и мой разговор с вами явился каплей, переполнившей чашу этого похвального стремления. Вот только и всего. Только в этом смысле,— в смысле повода для обнаружения моей нравственной дряблости и негодности,— и фигурировало здесь сознание необходимости. Причиной же этой дряблости его считать никак невозможно: причина не в нем, а в условиях моего воспитания. Стало быть... стало быть,— арифметика есть чрезвычайно почтенная и полезная наука, правил которой не должны забывать даже господа философы,— и даже особенно господа философы.
А как подействует сознание необходимости данного явления на сильного человека, который ему не сочувствует и противодействует его наступлению? Тут дело несколько изменяется. Очень возможно, что оно ослабит энергию его сопротивления. Но когда противники данного явления убеждаются в его неизбежности? Когда благоприятствующие ему обстоятельства становятся очень многочисленны и очень сильны. Сознание его противниками неизбежности его наступления и упадок их энергии представляют собою лишь проявление силы благоприятствующих ему условий. Такие проявления в свою очередь входят в число этих благоприятных условий.
Но энергия сопротивления уменьшится не у всех его противников. У некоторых она только возрастет вследствие сознания его неизбежности, превратившись в энергию отчаяния. История вообще, и история России в частности, представляет немало поучительных примеров энергии этого рода. Мы надеемся, что читатель припомнит их без нашей помощи.
Тут нас прерывает г. Кареев, который хотя, разумеется, и не разделяет наших взглядов на свободу и необходимость и к тому же не одобряет нашего пристрастия к «крайностям» сильных и страстных людей, но все-таки с удовольствием встречает на страницах нашего журнала ту мысль, что личность может явиться великой общественной силой. Почтенный профессор радостно восклицает: «Я всегда говорил это!» И это верно. Г. Кареев и все субъективисты всегда отводили личности весьма значительную роль в истории. И было время, когда это вызывало большое сочувствие к ним передовой молодежи, стремившейся к благородному труду на общую пользу и потому, естественно, склонной высоко ценить значение личной инициативы. Но в сущности субъективисты никогда не умели не только решить, но даже и правильно поставить вопрос о роли личности в истории. Они противополагали деятельность «критически мыслящих личностей» влиянию законов общественно-исторического движения и таким образом создавали как бы новую разновидность теории факторов: критически мыслящие личности являлись одним фактором названного движения, а другим фактором служили его же собственные законы. В результате получалась сугубая несообразность, которою можно было довольствоваться только до тех пор, пока внимание деятельных «личностей» сосредоточивалось на практических злобах дня и пока им поэтому некогда было заниматься философскими вопросами. Но с тех пор как наступившее в восьмидесятых годах затишье дало невольный досуг для философских размышлений тем, которые способны были мыслить, учение субъективистов стало трещать по всем швам и даже совсем расползаться, подобно знаменитой шинели Акакия Акакиевича. Никакие заплаты ничего не поправляли, и мыслящие люди один за другим стали отказываться от субъективизма, как от учения явно и совершенно несостоятельного. Но, как это всегда бывает в таких случаях, реакция против него привела некоторых из его противников к противоположной крайности. Если некоторые субъективисты, стремясь отвести «личности» как можно более широкую роль в истории, отказывались признать историческое движение человечества законосообразным процессом, то некоторые из их новейших противников, стремясь как можно лучше оттенить законосообразный характер этого движения, невидимому, готовы были забыть, что история делается людьми и что поэтому деятельность личностей не может не иметь в ней значения. Они признали личность за quantite negligeable *. Теоретически такая крайность столь же непозволительна, как и та, к которой пришли наиболее рьяные субъективисты. Жертвовать тезой антитезе так же неосновательно, как и забывать об антитезе ради тезы. Правильная точка зрения будет найдена только тогда, когда мы сумеем объединить в синтезе заключающиеся в них моменты истины **.
IV
Нас давно интересует эта задача, и давно уже нам хотелось пригласить читателя взяться за нее вместе с нами. Но нас удерживали некоторые опасения: мы думали, что, может быть, наши читатели уже решили ее для себя и наше предложение явится запоздалым. Теперь у нас уже нет таких опасений. Нас избавили от них немецкие историки. Мы говорим это серьезно. Дело в том, что в течение последнего времени между немецкими историками шел довольно горячий спор о великих людях в истории. Одни склонны были видеть в политической деятельности таких людей главную и чуть ли не единственную пружину исторического развития, а другие утверждали, что такой взгляд односторонен и что историческая наука должна иметь в виду не только деятельность великих людей и не только политическую историю, а вообще всю совокупность исторической жизни (das Ganze des geschichtlichen Lebens). Одним из представителей этого последнего направления выступил Карл Лампрехт, автор «Истории немецкого народа», переведенной на русский язык г. П. Николаевым. Противники обвиняли Лампрехта в {{коллективизме)) и в материализме, его — horribile dictum!*— даже ставили на одну доску с «социал-демократическими атеистами», как выразился он сам в заключение спора. Когда мы ознакомились с его взглядами, мы увидели, что обвинения, выдвинутые против бедного ученого, были совершенно неосновательны. В то же время мы убедились, что нынешние немецкие историки не в состоянии решить вопрос о роли личности в истории. Тогда мы сочли себя в праве предположить, что он до сих пор остается нерешенным и для некоторых русских читателей и что но поводу его и теперь еще можно сказать нечто, не совсем лишенное теоретического и практического интереса.
Лампрехт собрал целую коллекцию (eine artige Sammlung, как выражается он) взглядов выдающихся государственных людей на отношение их собственной деятельности к той исторической среде, в которой она совершалась; но в своей полемике он ограничился пока ссылкой на некоторые речи и мнения Бисмарка. Он приводит следующие слова, произнесенные железным канцлером в северно-германском рейхстаге 16 апреля 1869 года: «Мы не можем, господа, ни игнорировать историю прошлого, ни творить будущее. Мне хотелось бы предохранить вас от того заблуждения, благодаря которому люди переводят вперед свои часы, воображая, что этим они ускоряют течение времени. Обыкновенно очень преувеличивают мое влияние на те события, на которые я опирался, но все-таки никому не придет в голову требовать от меня, чтобы я делал историю; Это было бы невозможно для меня даже в соединении с вами, хотя, соединившись вместе, мы могли бы сопротивляться целому миру. Но мы не можем делать историю; мы должны ожидать, пока она сделается. Мы не ускорим созревания плодов том, что поставим под них лампу; а если мы будем срывать их незрелыми, то только помешаем их росту и испортим их». Основываясь на свидетельстве Жоли, Лампрехт приводит также мнения, не раз высказанные Бисмарком во время франко-прусской войны. Их общий смысл опять тот, что «мы не можем делать великие исторические события, а должны сообразовываться с естественным ходом вещей и ограничиваться обеспечением себе того, что уже созрело». Лампрехт видит в этом глубокую и полную истину. По его мнению, современный историк не может думать иначе, если только умеет заглянуть в глубь событий и не ограничивать своего поля зрения слишком коротким промежутком времени. Мог ли бы Бисмарк вернуть Германию к натуральному хозяйству? Это было бы невозможно для него даже в то время, когда он находился на вершине своего могущества. Общие исторические условия сильнее самых сильных личностей. Общий характер его эпохи является для великого человека «.эмпирически данной необходимостью».
'Так рассуждает Лампрехт, называя свой взгляд универсальным. Нетрудно заметить слабую сторону его «универсального» взгляда. Приведенные им мнения Бисмарка очень интересны как психологический документ. Можно не сочувствовать деятельности бывшего германского канцлера, но нельзя сказать, что она была ничтожна, что Бисмарк отличался «квиетизмом». Ведь это о нем говорил Лассаль: «слуги реакции не краснобаи, но дай бог, чтобы у прогресса было побольше таких слуг». И вот этот-то человек, проявлявший подчас поистине железную энергию, считал себя совершенно бессильным перед естественным ходом вещей, очевидно смотря на себя, как на простое орудие исторического развития; это еще раз показывает, что можно видеть явления в свете необходимости и в то же время быть очень энергичным деятелем. Но только в этом отношении и интересны мнения Бисмарка; ответом же на вопрос о роли личности в истории их считать невозможно. По словам Бисмарка, события делаются сами собою, а мы можем только обеспечивать себе то, что подготовляется ими. Но каждый акт «обеспечения» тоже представляет собою историческое событие: чем же отличаются такие события от тех, которые делаются сами собою? В действительности почти каждое историческое событие является одновременно и «обеспечением» кому-нибудь уже созревших плодов предшествовавшего развития и одним из звеньев 'той цепи событий, которая подготовляет плоды будущего. Как же можно противопоставлять акты «обеспечения» естественному ходу вещей? Бисмарку хотелось, как видно, сказать, что действующие в истории личности и группы личностей никогда не 6ылй~ и никогда не будут всемогущи. «Это, разумеется, не подлежит ни малейшему сомнению. Но нам все-таки хотелось бы знать, от чего зависит их, — конечно, далеко не всемогущая— сила, при каких обстоятельствах она растет, и при каких уменьшается. На эти вопросы не отвечает ни Бисмарк, ни цитирующий его слова ученый защитник «универсального» взгляда на историю.
Правда, у Лампрехта встречаются и более вразумительные цитаты *. Он приводит, например, следующие слова Моно, одного из самых видных представителей современной исторической науки во Франции: «Историки слишком привыкли обращать исключительное внимание на блестящие, громкие и эфемерные проявления человеческой деятельности, на великие события и на великих людей, вместо того, чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно интересную и непреходящую часть человеческого развития, — ту часть, которая в известной мере может быть сведена к законам и подвергнута до известной степени точному анализу. Действительно, важные события и личности важны именно как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнем света, а потом разбиваются о песчаный берег, ничего не оставляя после себя». Лампрехт заявляет, что он готов подписаться под каждым из этих слов Моно. Известно, что немецкие ученые не любят соглашаться с французскими, а французские — с немецкими. Поэтому бельгийский историк Пирэнн с особенным удовольствием подчеркнул в «Revue historique»* это совпадение исторических взглядов Моно со взглядами Лампрехта. «Это согласие весьма многознаменательно, —заметил он. —Оно доказывает, повидимому, что будущее принадлежит новым историческим взглядам».
V
Мы не разделяем приятных надежд Пирэнна. Будущее не может принадлежать взглядам неясным и неопределенным, а именно таковы взгляды Моно и особенно Лампрехта. Нельзя, конечно, не приветствовать то направление, которое объявляет важнейшей задачей исторической науки изучение общественных учреждений и экономических условий. Эта наука подвинется далеко вперед, когда в ней окончательно укрепится такое направление. Но, во-первых, Пирэнн ошибается, считая это направление новым. Оно возникло в исторической науке уже в двадцатых годах XIX столетия: Гизо, Минье, Огюстен Тьерри, а впоследствии Токвилль и другие были блестящими и последовательными его представителями. Взгляды Моно и Лампрехта являются лишь слабой копией со старого, но очень замечательного оригинала. Во-вторых, как ни глубоки были для своего времени взгляды Гизо, Минье и других французских историков, в них многое осталось невыясненным. В них нет точного и полного ответа на вопрос о роли личностей в истории. А историческая наука, действительно, должна решить его, если ее представителям суждено избавиться от одностороннего взгляда на свой предмет. Будущее принадлежит той школе, которая даст наилучшее решение, между прочим, и этого вопроса.
Взгляды Гизо, Минье и других историков этого направления явились как реакция историческим взглядам восемнадцатого века и составляют их антитезу. В восемнадцатом веке люди, занимавшиеся философией истории, все сводили к "сознательной деятельности личностей». Были, правда, и тогда исключения из общего правила: так, философско-историческое поле зрения Вико, Монтескье и Гердера было гораздо шире. Но мы не говорим об исключениях; огромное же большинство мыслителей восемнадцатого века смотрело на историю именно так, как мы сказали. В этом отношении очень любопытно перечитывать в настоящее время исторические сочинения, например, Мабли. У Мабли выходит, что Миносцеликом создал социалыю-политическую жизнь и нравы критян, а Ликург оказал подобную же услугу Спарте. Если спартанцы «презирали» материальное богатство, то этим они обязаны были именно Ликургу, который «спустился, так сказать, на дно сердца своих сограждан и подавил там зародыш любви к богатствам» (descendit pour ainsi dire jusque dans le found du Coeur des citoyens etc,)*. А если спартанцы покинули впоследствии путь, указанный им мудрым Ликургом, то в этом виноват был Лизандр, уверивший их в том, что «новые времена и новые обстоятельства требуют от них новых правил и новой политики» **. Исследования, написанные с точки зрения такого взгляда, имели очень мало общего с наукой и писались как проповеди, только ради будто бы вытекающих из них нравственных «уроков». Против таких-то взглядов и восстали французские историки времен реставрации. После потрясающих событий конца XVIII века уже решительно невозможно было думать, что история есть дело более или менее выдающихся и более или менее благородных и просвещенных личностей, по своему произволу внушающих непросвещенной, но послушной массе те или другие чувства и понятия. К тому же такая философия истории возмущала плебейскую гордость теоретиков буржуазии. Тут сказались те самые чувства, которые еще в XVIII веке обнаружились при возникновении буржуазной драмы. Тьерри употреблял в борьбе со старыми историческими взглядами, между прочим, те самые доводы, которые выдвинуты были Бомарше и другими против старой эстетики***1. Наконец, бури, еще так недавно пережитые Францией, очень ясно показали, что (ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей; уже одно это обстоятельство должно было наводить на мысль о том, что эти события совершаются под влиянием какой-то скрытой необходимости, действующей подобно стихийным силам природы, слепо, но сообразно известным непреложным законам. Чрезвычайно замечателен - хотя до сих пор, насколько мы знаем, никем еще не указан,— тот факт, что новые взгляды на историю как на законосообразный процесс были наиболее последовательно проведены французскими историками реставрационной эпохи именно в сочинениях, посвященных французской революции. Таковы были, между прочим, сочинения Минье и Тьера2. Шатобриан назвал новую историческую школу фаталистической. Формулируя задачи, которые она ставила перед исследователем, он говорил: «Эта система требует, чтобы историк повествовал без негодования о самых свирепых зверствах, говорил без любви о самых высоких добродетелях и своим ледяным взором видел в общественной жизни лишь проявление неотразимых законов, в силу которых всякое явление совершается именно так, как оно неизбежно должно было совершиться» *. Это, конечно, неверно. Новая школа вовсе не требовала бесстрастия от историка. Огюстен Тьерри даже прямо заявил, что политические страсти, изощряя ум исследователя, могут послужить могущественным средством открытия истины**. И достаточно хоть немного ознакомиться с историческими сочинениями Гизо, Тьера 4 или Минье, чтобы увидеть, что они очень горячо сочувствовали буржуазии как в ее борьбе со светской и духовной аристократией, так и в ее стремлении подавить требования нарождавшегося пролетариата. Но неоспоримо вот что: новая историческая школа возникла в двадцатых годах XIX века, т. е. в такое время, когда аристократия была уже побеждена буржуазией, хотя и пыталась еще восстановить кое-что из своих старых привилегий. Гордое сознание победы их класса сказывалось во всех рассуждениях историков новой школы. А так как буржуазия рыцарскою тонкостью чувств никогда не отличалась, то в рассуждениях ее ученых представителей слышно было иногда очень жестокое отношение к побежденным. «Le plus fort absorbe le plus faible, — говорит Гизо в одной из своих полемических брошюр,— et cela est de droit». (Сильный поглощает слабого, и это справедливо.) Не менее жестоко его отношение к рабочему классу. Эта-то жестокость, принимавшая по временам форму спокойного бесстрастия, и ввела в. заблуждение Шатобриана. Кроме того, тогда еще не вполне ясно было, как надо понимать законосообразность исторического движения. Наконец, новая школа могла показаться фаталистической именно потому, что, стремясь стать твердой ногой на точку зрения законосообразности, она мало занималась великими историческими личностями. С этим трудно было помириться людям, воспитавшимся на исторических идеях восемнадцатого века. Возражения посыпались на новых историков со всех сторон, и тогда завязался спор, не кончившийся, как мы видели, еще и поныне. .
В январе 1826 г. Сент-Бев писал в «С1оЬе» \ по поводу выхода в свет пятого и шестого томов «Истории французской революции» Тьера 2. «В каждую данную минуту человек может внезапным решением своей воли ввести в ход событий новую, неожиданную и изменчивую силу, которая способна придать ему иное направление, но которая, однако, сама не поддается измерению вследствие своей изменчивости».
Не надо думать, что Сент-Бев полагал, будто «внезапные решения» человеческой воли являются без всякой причины. Нет, это было бы слишком наивно. Он только утверждал, что умственные и нравственные свойства человека, играющего более или менее важную роль в общественной жизни, — его таланты, знания, решительность или нерешительность, храбрость или трусость и т. д. и т. д. — не могут остаться без очень заметного влияния на ход и исход событий, а, между тем, эти свойства объясняются не одними только общими законами народного развития: они всегда и в очень значительной степени складываются под действием того, что можно назвать случайностями частной жизни. Приведем несколько примеров для пояснения этой, кажется, в прочем и без того ясной мысли.
В войне за австрийское наследство ' французские войска одержали несколько блестящих побед, и Франция могла, невидимому, добиться от Австрии уступки довольно обширной территории в нынешней Бельгии; но Людовик XV не требовал этой уступки, потому что он воевал, по его словам, не как купец, а как король, и Аахенский мир ничего не дал французам2; а если бы у Людовика XV был другой характер или если бы на его месте был другой король, то, может быть, увеличилась бы территория Франции, вследствие чего несколько изменился бы ход ее экономического и политического развития.
Семилетнюю войну3 Франция вела, как известно, уже в союзе с Австрией. Говорят, что этот союз был заключен при сильном содействии г-жи Помпадур, чрезвычайно польщенной тем, что гордая Мария - Терезия назвала ее в письме к ней своей кузиной или своей дорогой подругой (blien bonne amie). Можно сказать поэтому, что если бы Людовик XV имел более строгие нравы или если бы он менее поддавался влиянию своих фавориток, то г-жа Помпадур не приобрела бы такого влияния на ход событий и они приняли бы другой оборот.
Далее. Семилетняя война была неудачна для Франции: ее генералы потерпели несколько постыднейших поражений. Вообще они вели себя более чем странно. Ришелье занимался грабежом, а Субиз и Брольи постоянно мешали друг другу. Так, когда Брольи атаковал неприятеля при Филлингаузене, Субиз слышал пушечные выстрелы, но не пошел на помощь к товарищу, как это было условлено и как он, без сомнения, должен был сделать, и Брольи вынужден был отступить *. Крайне неспособному Субизу покровительствовала та же г-жа Помпадур. И можно опять сказать: если бы Людовик XV был менее сластолюбив или если бы его фаворитка не вмешивалась в политику, то события не сложились бы так неблагоприятно для Франции.
Французские историки говорят, что Франции вовсе и не нужно было воевать на европейском материке, а следовало сосредоточить все свои усилия на море, чтобы отстоять от посягательства Англии свои колонии. Если же она поступила иначе, то тут опять была виновата неизбежная г-жа Помпадур, желавшая угодить «своей дорогой подруге» Марии-Терезии. Вследствие Семилетней войны Франция лишилась лучших своих колоний, что, без сомнения, сильно повлияло на развитие ее экономических отношений. Женское тщеславие выступает здесь перед нами в роли влиятельного «фактора» экономического развития.
Нужны ли другие примеры? Приведем еще один, может быть, наиболее поразительный. Во время той же Семилетней войны, в августе 1761 г., австрийские войска, соединившись с русскими в Силезии, окружили Фридриха около Штригау. Его положение было отчаянное, но союзники медлили нападением, и генерал Бутурлин, простояв 20 дней перед неприятелем, даже совсем ушел из Силезии, оставив там только часть своих сил для подкрепления австрийского генерала Лаудона. Лаудон взял Швейдниц, около которого стоял Фридрих, но этот успех был маловажен. А если бы Бутурлин имел более решительный характер? Если бы союзники напали на Фридриха, не дав ему окопаться в своем лагере? Возможно, что они разбили бы его наголову и он должен был бы подчиниться всем требованиям победителей. И это произошло едва за несколько месяцев до того, как новая случайность, смерть императрицы Елисаветы, сразу и сильно изменила положение дел в благоприятном для Фридриха смысле 1. Спрашивается, что было бы, если бы Бутурлин имел больше решительности или если бы его место занимал человек, подобный Суворову?
Разбирая взгляды историков-«фаталистов», Сент-Бев высказал еще и другое соображение, на которое тоже следует обратить внимание. В цитированной уже нами статье об «Истории французской революции» Минье он доказывал, что ход и исход французской революции обусловлены были не только теми общими причинами, которые ее вызвали, и не только теми страстями, которые она вызвала в свою очередь, но также и множеством мелких явлений, ускользающих от внимания исследователя и даже совсем не входящих в число общественных явлений, собственно так называемых. «В то время, как действовали эти (общие) причины и эти (вызванные ими) страсти,— писал он,— физические и физиологические силы природы тоже не бездействовали: камень продолжал подчиняться силе тяжести; кровь не переставала обращаться в жилах. Неужели не изменился бы ход событий, если бы, положим, Мирабо не умер от горячки; если бы случайно упавший кирпич или апоплексический удар убил Робеспьера; если бы пуля сразила Бонапарта? И неужели вы ре