Перевод Р. РайтКовалевой
Генрих Бёлль
Глазами клоуна
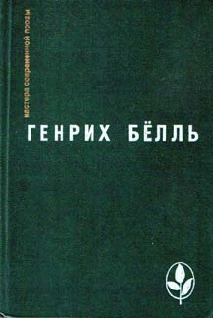
OCR Busya http://www.lib.aldebaran.ru
«Генрих Бёлль, серия «Мастера современной прозы»»: Радуга; Москва; 1988
Аннотация
Роман Бёлля «Глазами клоуна» написан от лица комического актера, профессионального шута, и на его страницы словно хлынул поток зловещих героев его сатирических рассказов. Какой страшный мир, какие рожи! Именно торжествующее свинство – может быть, самое страшное, что есть в этой книге о Федеративной республике 1962 года.
Генрих Бёлль
Глазами клоуна
ANSICHTEN EINES CLOWNS
Roman 1963
Перевод Р. РайтКовалевой

Не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.
Посвящается Аннемари
Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам – на перрон, вверх – с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску – купить вечерние газеты, выйти на улицу, подозвать такси. Пять лет я почти ежедневно откудато уезжал и кудато приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в какомто уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тex пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какаято сила – видимо, ее и зовут судьбой – всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я – клоун, официальное наименование моей профессии – комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает – отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то не мудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты – какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка – и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней – меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo» или акафист деве Марии – мои любимые лекарства – почти не помогают. Есть временное лекарство – алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, – Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик – упасть с крыши.
Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать изза кулис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчивоиронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку; плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают чтото подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.
Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какимито иллюзиями до получения годовых отметок – в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка – простая водка, вместо варьете – какието сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляровжелезнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какойто молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и, когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву – не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если бог даст, и окончу свои дни, – пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытье и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.
– Говорит Костерт, – сказал он ледяным голосом холуя, – надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.
– Пожалуйста, – сказал я, – разве вам чтонибудь мешает?
– Вот как! – сказал он.
Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:
– Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести… – Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой – обыкновенным хамом. – Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.
Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:
– Вы меня слушаете?
Я сказал:
– Да, слушаю. – И опять подождал. Молчание – отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня – для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:
– Предложите же чтонибудь, господин Шнир!
– Слушайте меня внимательно, господин Костерт, – сказал я. – Предлагаю вам следующее: вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?
Он подсчитал, откашлялся и сказал:
– Но я хотел дать вам пятьдесят марок.
– Хорошо, – сказал я, – тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?
Он опять подсчитал и спросил:
– А вы не можете захватить вещи в такси?
– Нет, – сказал я. – Я расшибся и ничего не могу подымать.
Видно, тут его христианская совесть всетаки зашевелилась.
– Господин Шнир, – сказал он мягко. – Простите, что я…
– Ничегоничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.
Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю – он непременно позвонит снова и начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что кроме меланхолии и мигреней я обладаю еще одним, почти мистическим свойством – чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когданибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода – канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было както протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер, «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, – моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться – на «ты» или на «вы», и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не «понимал» Мари.
Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:
– Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?
– Оставьте меня в покое! – крикнул я. – Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.
Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси – всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.
– Все в порядке? – крикнул он за дверью.
– Да, – сказал я, – убирайтесь отсюда, скупердяй божий!
– Но позвольте… – начал было он, и я заорал:
– Вон!
Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети бренного мира не только умней, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал в трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, – за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А ято хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступать не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра Сердечный привет Ганс».
В Бонне все идет подругому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего дветри недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не подозвать такси – я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась однаединственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей изо льда, которые будут таять по ходу номера.
Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу – две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржавокрасных тонах, находится моя квартира.
Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подыматься кверху, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь – перекрытие – и снова в слегка сдвинутой перспективе – спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый – только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.
Все в моей квартире ржавокрасного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржавокрасном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное мое страдание – это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами, – это Мари, и, с тех пор как она от меня ушла, я живу, как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и – конечно, не без задней мысли – обратить меня когданибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал, куда девать руки, лицо; нельзя всетаки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какомуто тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «…и молим тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к «теме» вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того, чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно изза Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и, только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живется неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока наконец даже прелат – духовный наставник этого кружка – Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.
Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире – тепло, чисто, и, когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, всетаки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.
И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами – зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута какимнибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху – во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моники – слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется «Тайга».
Я прикурил сигарету Моники от Моникиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Гдето в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моники. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я подвернул правую штанину и посмотрел на ободранное колено: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и всетаки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати – пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать – пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, помоему, ванна – вовсе не роскошь, а когда ездишь с пятью чемоданами, то и такси не транжирство.
Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор, как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась однаединственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, – это велосипед, но, если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какаянибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.
Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию – Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война, – прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявил, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходившем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темносиняя шляпка, теплое синее пальто с меховым: воротничком, за спиной – маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.
Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не оченьто подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами чтонибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь – алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему – я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.
А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и, когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, – говорил Брюль, – кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии и считается человеком «с достойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии: националсоциалистов.)
Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе – картофель с соусом, а на третье – яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:
– Что за чепуха, какой там пикник. Он.а уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!
И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока – все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но, когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:
– Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.
Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».
– Наша священная немецкая земля, – сказала она, – они уже в самом сердце Айфеля [1].
Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейнa плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какойто идиотской бутафорией. Видел я и нескольких «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев – те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чегото бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стеклянную доску на ночном столике. Генриетта в синей шляпке, с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны ктото к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузеном».
Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю», села, леса, замки – все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.
Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки» – это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:
– Ты что это делаешь?
И он с невероятной серьезностью ответил:
– Я буду «вервольфом», а ты разве нет?
– Ну как же, – сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: гдето там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчиков спросил, как шали этого героя, я сказал:
– Рюбецаль [2].
Герберт Калик весь пожелтел и завопил:
– Презренный пораженец!
Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет – ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:
– Нацистская свинья!
Гдето я прочел это слово – кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какогото нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу гостиную. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:
– Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!
Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Какнибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить – ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель ортсгруппенляйтера Лёвених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:
– Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!
И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:
– Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.
– Но тебе его никто не говорил? – спросил он. – Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?
– Нет, – сказал я.
– Мальчик даже не понимает, что говорит, – сказал мой отец и положил мне руку на плечо.
Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.
Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:
– Он сам не знает, что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.
– Ну и отрекайся, – сказал я.
Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкафами со свинцовым переплетом стекол.
Я слышал раскаты артиллерии на Айфеле, всего в какихнибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции – собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг – он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:
– К счастью, Георг был сиротой!
Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба – мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебойль, Блотерт, Зоммервильд; а между этими двумя столбцами – имя Моники Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо – и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямотаки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колено, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но всетаки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон – я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы к о мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет – это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная – какаято драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как оре т Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какойто короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но тыто все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»
Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.
Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречия, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты – никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Както во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала – пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась понастоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»
А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» – и бросила все свои карты прямо в горящий камин.
Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чемто непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадается ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона – вечно забываю его: Шнир, Альфонс, др г. к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:
– Квартира доктора Шнира.
– Можно попросить госпожу Шнир?
– Кто у телефона?
– Шнир, – сказал я, – Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.
Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно – мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.
– Могу ли я быть уверена, что это не шутка? – спросила она наконец.
– Да, вы можете быть вполне уверены, – сказал я, – а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка…
Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» – и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный – для шахт, черный – для биржи и белый – для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный – для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый – для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:
– Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.
Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:
– Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.
Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:
– Никак не можешь забыть, да?
Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:
– Забыть? Ты хотела бы этого, мама?
Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какуюто секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», – и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.
Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее «мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер – писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и, когда Генриетта впадала в забытье, он всегда говорил о «мистическом даре», но, стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленаха» – или какуюнибудь французскую фразу: «La condition du Monsieur lе Comte est parfaite» [3]. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:
– А как папа?
– Оо, – сказала она, – он постарел… постарел и стал мудрее.
– А Лео?
– О, Лэ, он очень прилежен, очень, – сказала она, – ему предсказывают блестящую будущность в теологии.
– О господи, – сказал я, – только подумать, Лео – будущий богослов!
– Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество, – сказала моя мать, – но ведь дух человеческий не признает препон.
Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который попрежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я както прочел один из его романов – «Любовь француза», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой – пленный французский лейтенант – был блондин, а героиня – немецкая девушка с Мозеля – брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», – кажется, это случалось раза два, – но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его както походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную «Христианскую мистику» Гёрреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрусталя, когда влюбленные подымают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; зa это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопротивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение – меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер… – голос у него понастоящему дрогнул, – наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.
– А что делает сейчас Шницлер? – спросил я мою мать.
– О, у него все отлично, – сказала она, – в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.
Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей чтото еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.
– А дедушка как? – спросил я.
– Изумительно, – сказала она, – он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.
– А это очень просто, – сказал я, – таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?
– Нет, – сказала она, – он на полтора месяца уехал на Искью.
Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:
– Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.
– Ах так? – сказал я. – И ты, наверно, испугалась, что и стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать но закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.
Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала чтото насчет принципов. Но в общем от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, онато, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.
Я положил себе под спину кучу подушек, задрал больную ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, всетаки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?
Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Всетаки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео – Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы – осталосьто всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет – это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит и мой «диапазон» определяет с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний – а в этом мире все друг другу посторонние – склонен преувеличивать и плохое и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых зальцах перед домохозяйкамикатоличками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорарах. Разумеется, какаянибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок вполне приличная сумма, и, если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты
и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братецнесердись», она наверняка решит, что я какойто жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоял раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и, когда я пригласил его поужинать – нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог, – ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как и познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.
Как будет, так будет, впереди все равно канава. У Мари в голове совсем другое – она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой посвоему верующий, такой чистый, ну и так далее. Ужас что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы както не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.
Ктонибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались, – напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услыхать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться посвоему – и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вожделением».
Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мутило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь город знал Цюпфнера, главным образом изза его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Ктото даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофею.
Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону – законный срок и то слишком долог. Никогда я не жаловался на школу изза учителей, а только изза моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» должен заняться Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшеклассники и младшие, учителя, инспекторы, люди с высшим образованием и без оного – сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:
– Может, ктонибудь хочет высказаться? И я сразу вскочил и сказал:
– Помоему, стихи чудесные!
Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. Помоему, он был славный, только немного суховат. С сыном я тоже был знаком мало, не больше, чем с отцом. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и, когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:
– Хочешь поиграть с нами?
И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:
– Хочешь пойти с нами? Я спросил:
– Куда?
И он сказал:
– На вечер нашего кружка. А я сказал:
– Но ведь я вовсе не католик.
И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:
– Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?
– Люблю, – сказал я, – но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.
И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:
– Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.
Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, и знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал V ее отца, а иногда ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедникпротестант», «Рабочий в день получки», – показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:
– Клоуном. Он сказал:
– Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.
– Нет, – сказал я, – не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.
– То есть как же ты себе это представляешь? – спросил он.
– Никак, – сказал я, – никак. Я просто уйду от вас…
Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер – хотя онто был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик пролил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнаружить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Чтото было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какието записочки, где было только одно слово: «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставали особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс – художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какуюто жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигареты, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.
Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик както назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и, когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверно, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.
В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденауггассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и, когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:
– Алло, кто там?
– Это я! – крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.
Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться – на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные полосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал мот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.
– Уходи, – сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и, когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, – и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.
– Нет, нет, – сказал я, – я не уйду, куда же мне идти? Она покачала головой.
– Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?
– Нет, – сказала она, – не езди в Кёльн!
Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, И она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят, – между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже както кокетливо, а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался – до того это нее вышло поуличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно много. Она сказала, что думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, изза которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь, – все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и, как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:
– Чего это ты делаешь? А она сказала:
– Хочу быть красивой.
Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре – она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:
– Может быть, тебе всетаки лучше уйти?
Но я сказал:
– Нет.