Попытки периодизации истории перевода
Теория
ПЕРЕВОДА
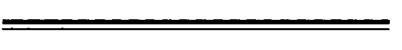
Допущено Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация "

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2007
УДК 800 ББК81-7 Г20
Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)
Рецензенты:
доктор филологических наук С.Г. Тер-Минасова,
доктор филологических наук Л.В. Полубиченко,
президент Союза переводчиков России Л, О. Гуревич
Рекомендовано Научно-методическим советом Союза переводчиков России
Гарбовский Н.К.
| Г20 |
| М.: Изд-во Моск. ун-та, |
Теория перевода: Учебник.
2007. - 544 с.
ISBN 5-21I-04802-4
Учебник посвящен вопросам общей теории перевода — научной дисциплины, изучающей различными методами и приемами структуру и закономерности, присущие всякому переводу независимо от сопоставляемой пары языков, от формы переводческой деятельности и условий ее протекания, от содержания и функциональной направленности переводимых текстов.
Предназначен для студентов, изучающих теорию перевода в рамках специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация», для лиц, обучающихся по программе дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также для широкого круга читателей, желающих познакомиться с этим видом сложной и социально значимой деятельности.
УДК 800 ББК81-7
Издательство Московского
университета, 2007 г.
— Я спешу сообщить Вам важную
новость: я только что опубликовал
моего Горация!
— Каким образом? — воскликнул
геометр, — Ведь это сделали за две
тысячи лет до вас!
— Вы не поняли, я только что
опубликовал перевод этого антично
го автора. Вот уже двадцать лет,
как я перевожу.
— Не может быть, сударь! —
удивился геометр. — Чтобы двад
цать лет Вы не думали? Чтобы Вы
говорили за других, а другие думали
за Вас?..
Шарль Луи Монтескье
Что сказать мне о тех, кто, по правде, более достойны быть названными предателями, нежели перелагателями? Ведь они предают тех, кого берутся излагать, лишая их славы; обманывают они и несведущего читателя, выдавая ему белое за черное. А чтобы прослыть учеными, они наобум переводят с таких языков, как греческий или древнееврейский, не тая даже их азов.
Ж о а ш е н Дю Белле
ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая читателю книга посвящена вопросам общей теории перевода,т.е. научной дисциплине, изучающей различными методами и приемами структуру и наиболее общие закономерности перевода — одной из самых древних и весьма популярных в настоящее время видов человеческой деятельности — как профессиональной, так и любительской.
Общая теория перевода обычно противопоставляется так называемым частным теориям перевода,которые, в свою очередь, также подразделяются на две большие ветви. Первая из них рассматривает закономерные соответствия форм двух конкретных языков и регулярные способы перехода от конкретного языка А к конкретному языку В, и наоборот. Так, например, можно говорить о частной теории перевода английского и русского, французского и английского, русского и китайского и других пар языков. Такие частные теории перевода наиболее тесно смыкаются с контрастивной лингвистикой.
Вторая ветвь изучает частные закономерности определенных видов переводческой деятельности, свойственные именно этим видам, но отличающие их от других. Так, существует теория художественного перевода, теория устного перевода и т.п. Теоретические разыскания этого направления иногда называют специальными теориями перевода. Кэтому направлению примыкают теоретические исследования особенностей перевода речевых произведений разного содержания и разных речевых жанров, например, теории военного перевода, юридического, медицинского, технического и т.п.
Общие же закономерности перевода как интеллектуальной деятельности, присущие всякому переводу независимо от сопоставляемой пары языков, от формы переводческой деятельности и условий ее протекания, от содержания и прагматической направленности переводимых речевых произведений, изучаются общей теорией перевода.
Как ни парадоксально, эта древнейшая и сложнейшая деятельность имеет весьма молодую теорию, сравнимую по возрасту с генетикой и кибернетикой.
Одна из моих задач — убедить читателя в великой цивилизаторской миссии перевода, показав, в частности, как переводческая деятельность воздействовала на распространение религии, на совершенствование словесности, на развитие государственности в условиях двуязычия. Я попытаюсь проанализировать, как формировались и изменялись в общественном мнении взгляды на перевод, какие проблемы волновали в первую очередь переводчиков прошлого, какие критерии ставились во главу угла в оценке перевода. В то же время я постараюсь показать, какими категориями оперирует современная теория перевода, какими методами изучает она свой объект, с какими научными дисциплинами она связана наиболее тесно.
Чтобы понять, в чем сложность переводческого труда и какие противоречия приходится разрешать переводчику, чтобы максимально объективно оценить целесообразность и обоснованность переводческих действий, их достоинства и недостатки, необходимо выявить сущностные признаки переводческой деятельности и изучить ее структуру. Кроме того, следует определить характер отношений между тремя постоянными соучастниками перевода: автором исходного речевого произведения, переводчиком и получателем речевого произведения, созданного переводчиком, а также рассмотреть этические аспекты переводческого труда. И наконец, важно понять, каким «инструментарием» владеет переводчик, какие операции производит он над текстом, какие использует приемы и методы для выхода из противоречивых ситуаций.
Начать изучение вопросов общей теории перевода, видимо, целесообразно с анализа самого понятия перевод.
В настоящее время известно немало самых разнообразных определений перевода. Каждый исследователь, стремящийся разработать собственную теорию, как правило, дает и свое определение объекта исследования. Французский переводчик и теоретик перевода Э. Кари объясняет перипетии в определениях перевода следующим образом: «Понятие перевода, в самом деле, очень сложно, и не только потому, что в наше время оно приобрело столь удивительное многообразие, но также потому, что оно беспрестанно изменялось на протяжении столетий. Возможно, именно это затрудняло размышления многих авторов, которые, соглашаясь с мнением предшественников либо оспаривая их, не замечали, что не всегда говорили об одном и том же»1.
 1 Саrу Е. Comment faut-il traduire? Lille, 1986. P. 81: «La notion de traduction est en effet très complexe, non seulement parce que, de notre temps, elle a acquis cette surprenante variété, mais aussi parce qu'elle a sans cesse varié au long des siècles. C'est peut-être cela qui a obscurci les raisonnements de nombreux auteurs qui, reprenant ou discutant les opinions de leurs prédécesseurs, ne remarquaient pas qu'ils ne parlaient pas toujours les uns et les autres du même objet».
1 Саrу Е. Comment faut-il traduire? Lille, 1986. P. 81: «La notion de traduction est en effet très complexe, non seulement parce que, de notre temps, elle a acquis cette surprenante variété, mais aussi parce qu'elle a sans cesse varié au long des siècles. C'est peut-être cela qui a obscurci les raisonnements de nombreux auteurs qui, reprenant ou discutant les opinions de leurs prédécesseurs, ne remarquaient pas qu'ils ne parlaient pas toujours les uns et les autres du même objet».
В самом деле, перевод предстает как чрезвычайно сложное и многостороннее явление, описать все сущностные стороны которого в одном, даже очень развернутом, определении весьма сложно, если вообще возможно. Прежде всего следует иметь в виду, что само слово перевод является многозначным и даже в пределах данной научной дисциплины соотносится по меньшей мере с двумя различными понятиями: перевод как некая интеллектуальная деятельность, т.е. процесс, и перевод как результат этого процесса, продукт деятельности, иначе говоря, речевое произведение, созданное переводчиком. Иногда, чтобы избежать двусмысленности, в строгих научных описаниях используют заимствованный из английского языка термин «транслат», призванный обозначать продукт переводческой деятельности. Вряд ли следует считать этот термин удачным именно в силу его чужеродной формы. Более того, контекст научного описания, как правило, позволяет безошибочно определить, идет ли речь о деятельности или о продукте.
Приведем некоторые определения перевода, принадлежащие известным ученым, и посмотрим, как отражаются в них те или иные стороны интересующего нас объекта:
A.B. Федоров:
«Перевод рассматривается прежде всего как речевое произведение в его соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух языков и с принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям»1.
«Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка»2.
«Процесс перевода, как бы он быстро ни совершался в отдельных, особо благоприятных или просто легких случаях, неизбежно распадается на два момента»3.
А.Д. Швейцер:
«Перевод может быть определен как: однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному ("переводческому") анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде... Процесс, характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями»4.
 ' Федоров A.B. Основы общей теории перевода. М., 1983. С. 10 (здесь и далее в приводимых определениях выделено мною. — Н.Г.).
' Федоров A.B. Основы общей теории перевода. М., 1983. С. 10 (здесь и далее в приводимых определениях выделено мною. — Н.Г.).
2 Там же.
3 Там же. С. 12.
4 Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. С. 75.
M. Ледерер:
«Припереводе недостаточно понять самому, нужно, чтобы поняли другие. По определению, перевод распадается на две части: восприятие смысла и его выражение»1.
Я.И. Рецкер:
«Задача переводчика — передать средствами другого языка целостно и точно содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Под "целостностью" перевода надо понимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным или адекватным) можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в нем.Это требование относится как ко всему переводу данного текста в целом, так и к отдельным его частям»2.
Ж. Мунен:
«Перевод — это контакт языков, явление билингвизма. Но
этот очень специфический случай билингвизма, на первый взгляд, мог бы быть отброшен как неинтересный в силу того, что он отклоняется от нормы. Перевод хотя и является бесспорным фактом контакта языков, будет поэтому описываться как крайний, статистически очень редкий случай, когда сопротивление обычным последствиям билингвизма более сознательно и более организованно. Это случай, когда билингв сознательно борется против всякого отклонения от нормы, против всякой интерференции»3;
«Перевод (особенно в области театрального искусства, кино, интерпретации), конечно, включает в себя откровенно нелингвистические, экстралингвистические аспекты. Но всякая переводческая деятельность, Федоров прав, имеет в своей основе серию анализов и операций, восходящих собственно к лингвистике, ко-
 1 Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris, 1997. P. 31: «Pour traduire, comprendre
1 Lederer M. Interpréter pour traduire. Paris, 1997. P. 31: «Pour traduire, comprendre
soi-même ne suffit pas, il faut faire comprendre. L'opération traduisante se scinde par
définition en deux parties, celle de l'appréhension du sens, et celle de son expression».
2 Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974. С. 7.
3 Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1963. P. 4: «La
traduction, donc, est un contact de langues, est un fait de bilinguisme. Mais ce fait de
bilinguisme très spécial pourrait être, à première vue, rejeté comme inintéressant parce
qu'aberrant. La traduction, bien qu'étant une situation non contestable de contact de
langues, en serait décrite comme le cas-limite: celui, statistiquement très rare, où la
résistance aux conséquences habituelles du bilinguisme est la plus consciente et la plus
organisée; le cas où le locuteur bilingue lutte consciemment contre toute déviation de la
norme linguistique, contre toute interférence — ce qui restreindra considérablement la
collecte de faits intéressants de ce genre dans les textes traduits».
торые прикладная лингвистическая наука может разъяснить точнее и лучше, нежели любой ремесленнический эмпиризм. Если угодно, можно сказать, что, подобно медицине, перевод остается искусством, но искусством, основанным на науке»1.
B.C. Виноградов:
«Нужно согласиться с мыслью, что перевод — это особый, своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. Это искусство «вторичное», искусство «перевыражения» оригинала в материале другого языка. Переводческое искусство, на первый взгляд, похоже на исполнительское искусство музыканта, актера, чтеца тем, что оно репродуцирует существующее художественное произведение, а не создает нечто абсолютно оригинальное, тем, что творческая свобода переводчика ограничена подлинником. Но сходство на этом и кончается. В остальном перевод резко отличается от любого вида исполнительского искусства и составляет особую разновидность художественно-творческой деятельности, своеобразную форму "вторичного" художественного творчества»2.
Р.К. Миньяр-Белоручев:
«Объектом науки о переводе является не просто коммуникация с использованием двух языков, а коммуникация с использованием двух языков, включающая коррелирующую между собой деятельность источника, переводчика и получателя. Центральным звеном этой коммуникации является деятельность переводчика или перевод в собственном смысле этого слова, который представляет собой один из сложных видов речевой деятельности»3.
«Перевод как бы удваивает компоненты коммуникации, появляются два источника, каждый со своими мотивами и целями высказывания, две ситуации (включая положительную и отрицательную ситуации), два речевых произведения и два получателя. Удвоение компонентов коммуникации и является основной отличительной чертой перевода как вида речевой деятельности. Удвоение компонентов коммуникации создает свои проблемы. Двумя важнейшими из них являются проблема переводимости и проблема инварианта в переводе»4.
 1 Ibid. P. 16: «La traduction (surtout dans les domaines du théâtre, du cinéma, de
1 Ibid. P. 16: «La traduction (surtout dans les domaines du théâtre, du cinéma, de
l'interprétation) comporte certainement des aspects franchement non-linguistiques,
extra-linguistiques. Mais toute opération de traduction — Fédorov a raison — comporte,
à la base, une série d'analyses et d'opérations qui relèvent spécifiquement de la
linguistique, et que la science linguistique appliquée correctement peut éclairer plus et
mieux que n'importe quel empirisme artisanal. On peut, si l'on y tient, dire que, comme
la médecine, la traduction reste un art — mais un art fondé sur une science».
2 Виноградов B.C. Лексические вопросы перевода художественной прозы.
M., 1978. С. 8.
3 Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996. С. 25.
4 Там же. С. 29.
Л. С. Бархударов:
«Перевод можно считать определенным видом трансформации, а именно межъязыковой трансформации»1.
Какие же сущностные признаки перевода могут быть выведены из приведенных выше определений? Итак, перевод — это:
— речевое произведение в его соотношении с оригиналом;
— выражение того, что было уже выражено средствами другого
языка, перевыражение;
— процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации;
коммуникация с использованием двух языков, контакт язы
ков, явление билингвизма;
— вид речевой деятельности, в котором удваиваются компонен
ты коммуникации;
— двухфазный процесс, так как он распадается на две части, на
два момента;
— межъязыковая трансформация;
— вид словесного искусства; искусство, основанное на науке.
Перевод как речевое произведение, т.е. как текст, интересен для теории перевода именно как величина относительная. Однако относительный характер текста перевода состоит не только в том, что он должен рассматриваться в соотношении с оригиналом. Разумеется, текст перевода — это единственная материализованная сущность, которая при сопоставлении с исходным речевым произведением позволяет приоткрыть завесу над тайной переводческой деятельности, выявить ее механизмы, смоделировать ее. Любой перевод всегда предполагает оригинал. Из этого следует, что отношение оригинал/перевод есть объективная необходимость, некая постоянная, отражающая сущность данного явления. В то же время перевод представляет собой речевое произведение, оказывающееся в одном ряду с другими речевыми произведениями, существующими и постоянно возникающими в среде переводящего языка и переводной культуры. Перевод всегда соотносится с этими речевыми произведениями и оценивается нередко только по отношению к ним, например литературной критикой. Что такое перевод в этом окружении? Равноправный член «сообщества» или чужестранец, родное дитя или подкидыш, чистокровный ариец или метис? В этой двойной относительности сама суть перевода, в ней же — основной источник противоречий, основной камень преткновения в оценке перевода, в вечных спорах о его возможностях.
 Бархударов Л. С. Язык и перевод. М, 1975. С. 6.
Бархударов Л. С. Язык и перевод. М, 1975. С. 6.
Изучая перевод как процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, как коммуникацию с использованием двух языков, как контакт языков, мы со всей очевидностью обнаруживаем межъязыковую и межкультурную асимметрию. Сегодня, пожалуй, никто не сомневается в том, что любой из современных языков способен выразить,описать любой фрагмент реальной действительности. Р. Якобсон рассматривал заявления о «непереводимости», которые время от времени провозглашаются скептиками как попытки разрубить гордиев узел множества запутанных проблем теории и практики перевода. «Весь познавательный опыт и его классификацию, — утверждал он, — можно выразить на любом существующем языке»1.
В подтверждение этого можно вспомнить, что на сегодняшний день Библия, представляющая собой исчерпывающую антологию ситуаций, типов, сюжетов, моралей, которые в несколько измененном виде лишь повторяются во всей последующей мировой литературе, переведена более чем на 2000 языков мира.
Но никто не сомневается и в том, что языки отражают действительность по-разному, асимметрично. Когда в переводе языки оказываются в контакте, когда при описании какого-либо фрагмента действительности значения одного языка с необходимостью определяются через значения другого, асимметрия проявляется наиболее отчетливо. Мы обнаруживаем, что языки по-разному членят действительность, различно описывают одни и те же явления и предметы, обращая внимание на разные их признаки. Люди разных культур по-разному выражают радость и отчаяние, любовь и ненависть, для них по-разному течет время, по-разному мир «звучит» и окрашивается в цвета. У одних есть предметы, отсутствующие у других, одни до сих пор активно используют то, что уже давно вышло из употребления у других. Но люди иных культур и иного языкового сознания способны понять эти различия. Поэтому если рассматривать перевод только как способ описания той же самой действительности средствами иного языка, то проблема перевода оказывается довольно легко решаемой и вопрос о «переводимости» не возникает.
Но перевод — это перевыражение.Если всякое речевое произведение представляет собой в известном смысле материальное оформление отражения фрагмента действительности сознанием индивида, то перевод является отражением отражения. Он отражает фрагмент действительности не непосредственно, а как уже осмысленный сознанием Другого, ведь переводим мы не описание факта, а мысль о факте. Насколько точно можно и нужно переда-
 1 Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 364. 10
1 Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 364. 10
вать мысли Другого в переводе, где предел переводческой «верности», когда, напротив, перевод становится «предательством»?
Определения перевода позволяют обрисовать в общих чертах и фигуру переводчика. Переводчик — это по меньшей мере двуязычная личность, обращенная одновременно к двум культурам. Переводчика иногда пренебрежительно называют «слугой двух господ», но если речь идет о двух культурах, которым служит переводчик, то обидного в таком определении ничего нет. Ж. Мунен определил перевод как особый случай билингвизма. Особенность переводческого билингвизма, на наш взгляд, состоит, во-первых, в том, что переводческий билингвизм имеет, как правило, асимметричный характер. У большинства переводчиков доминирует один язык, данный ему с молоком матери, и одна культура, впитанная вместе с этим языком. Этот язык и эта культура подчиняют себе другие, с которыми переводчику приходится сталкиваться в переводе. Через призму доминирующего языка и доминирующей культуры понимаются смыслы, заключенные в речевых произведениях на другом языке, воспринимаются факты иной культуры. Во-вторых, в процессе перевода оба языка присутствуют в акте речи и функционируют одновременно. Переводчик в процессе перевода напоминает персонаж из старого франко-итальянского фильма «Закон есть закон», правой ногой стоящего в одной стране, а левой — в другой.
В коммуникативном акте с переводом все гораздо сложнее, чем в обычной коммуникации на одном языке. Многие составляющие коммуникативного акта удваиваются. Центральная фигура этого акта коммуникации — переводчик — постоянно меняет свои роли, становясь то получателем речи, то отправителем, видоизменяется форма сообщения. Да и само сообщение, разве оно остается неизменным? В нем непременно что-то теряется, что-то появляется новое.
Считается, что перевод осуществляется в два этапа — восприятие смысла и его выражение. А когда же происходит преобразование смысла? Или его не происходит вовсе, и смысл исходного сообщения остается неизменным? Но тысячелетняя практика перевода свидетельствует о том, что это не так. Что же остается в переводе, можно ли установить некий инвариант смысла, наличие которого необходимо для того, чтобы конкретная процедура могла быть определена как перевод? Какими единицами оперирует переводчик, переходя от восприятия речи к ее порождению, совпадают ли они с единицами языка, или с квантами информации, или еще с какими бы то ни было сущностями?
Процесс перевода определяют как процесс межъязыковой трансформации. Но что трансформируется в переводе? Возможен
ли перевод без трансформирования? Что лежит в основе переводческих операций? Поддаются ли они исчислению и типологическому представлению?
Можно ли считать переводом всякую передачу смысла исходного речевого произведения средствами иного языка или же перевод — это только особый вид межъязыковой речевой деятельности? Взгляды на перевод варьируют: от максимально широкого, который мы находим, например, у Шлегеля, заявлявшего, что «человеческий ум может только одно — переводить»1, до максимально узкого, различающего перевод и интерпретацию и отказывающего устному переводу в статусе «перевода».
Часто мы слышим расхожие выражения «перевод — искусство», «искусство перевода», «искусный переводчик» и т.п. Что это, красивая метафора, поднимающая социальный статус переводчика, или серьезное типологическое утверждение, размещающее перевод как вид человеческой деятельности в пределах той сферы, которую принято называть искусством?
Эти и многие другие вопросы возникают перед нами, когда мы хотим определить как можно более полно и точно сущность перевода. Поэтому всякое определение перевода, если мы хотим придать ему лаконичную форму, будет страдать некоторой односторонностью. Слишком сложно явление, слишком противоречивы его интерпретации, слишком неоднозначно отношение к нему с удовольствием потребляющего его общества.
Я попытаюсь представить собственное видение главных проблем перевода, которое, разумеется, во многом будет совпадать с мнениями предшественников и современников, всерьез задумывавшихся над этими проблемами, в чем-то будет отличаться от них. Но прежде чем приступить к анализу этих проблем, еще раз напомню высказывание французского переводчика, писателя и теоретика перевода Валери Ларбо, вынесенное в эпиграф, который не без основания утверждал, что «в истинном переводчике непременно сочетаются ценнейшие и редчайшие человеческие качества: самоотречение и терпение, даже милосердие, скрупулезная честность и ум, обширные знания, богатая и проворная память». И если каких-то из этих добродетелей и качеств может и недоставать даже у лучших умов, то ими никогда не бывают наделены посредственности.
К этой исключительно точной оценке личности переводчика все же хочется добавить, что если у человека, всерьез решившего заниматься переводом, каких-либо из этих качеств пока и недостает, они могут быть развиты в процессе обучения переводу,
 1 Цит. по: Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972. С. 185.
1 Цит. по: Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972. С. 185.
ведь обучение переводу не только прививает определенные профессиональные знания и навыки, развивает красноречие, о чем писали еще Цицерон и Квинтилиан, но и воздействует на человека нравственно, формирует из него сильную, психически устойчивую, этически выдержанную и разносторонне образованную личность.
Для того чтобы освоить все тонкости непростого переводческого дела, стать настоящим мастером, необходимо прежде всего познакомиться с тем, что делали предшественники на протяжении не менее двух тысячелетий, т.е. того периода, о котором в истории перевода сохранились хоть какие-то свидетельства. Опыт предшественников позволяет прежде всего увидеть неразрывную связь переводческой деятельности со всей жизнью общества, место и роль перевода в развитии цивилизации. Овладение этим опытом предохраняет от повторения ложных шагов, которые иногда совершали даже выдающиеся мастера своего дела в поисках решений труднейших проблем перевыражения смыслов, заключенных в знаках другого языка, отражающих иное видение мира, иной опыт миросозерцания, иной ход суждений. Исторический опыт дает также возможность убедиться в том, что в переводе, в подходах к оценке качества перевода, верности и точности существуют цикличность и мода, что одни и те же решения в разные эпохи оцениваются противоположно, что переводческая практика всецело зависит от состояния словесности народа, на язык которого осуществляется перевод, от представлений общества о красивом и правильном. И, наконец, изучение опыта переводчиков прошлого показывает, что многие из современных проблем теории перевода поднимались неоднократно на протяжении всей истории этой деятельности, так и не получив окончательного разрешения.
Перевод как сложнейшая интеллектуальная деятельность представляет собой объект изучения многих научных дисциплин. Не только лингвистика, литературоведение и литературная критика, история языка и литературы изучают перевод. Некоторые аспекты переводческой деятельности изучаются психологией, социологией, религиоведением, кибернетикой, информатикой и другими научными дисциплинами. Но у этой деятельности есть своя собственная теория, особая научная дисциплина, пользующаяся методами других наук и накопленными ими знаниями, но имеющая свой собственный предмет — установление закономерностей переводческих преобразований, обнаружение объективных причин переводческих решений и разработка их типологий. Теорию перевода можно определить как фундаментальное научное знание о подобии,о подобии вещей реального мира, о подобии
отражения человеческим сознанием реального мира, о подобии выразительных возможностей человеческих языков. Подобие всегда относительно. Степень относительности варьирует от объекта к объекту, от языка к языку, от культуры к культуре.
Переводчик отыскивает подобие в море разнообразного, подобие, которое может быть воспринято человеком иной культуры, иного языка, иной исторической эпохи. Многочисленные приемы и операции, к которым прибегает переводчик для установления такого подобия, составляют в совокупности методологию перевода, овладение которой необходимо даже исключительно талантливому человеку, тонко чувствующему все мельчайшие нюансы значений, смыслов, ситуаций. Если даже мы подходим к переводу как к искусству, то это искусство, по справедливому утверждению Мунена, основано на науке. Методологию перевода можно разработать, ей можно обучить, как можно научить от природы талантливого композитора нотной грамоте, талантливого живописца — технике живописи и т.п.
♦ Часть I♦
ОПЫТ (ПЕРЕВОД В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ)
 ПРОЛОГ
ПРОЛОГ
СЛАВА ПОПУГАЮ!
Давным-давно, когда профессия переводчика была еще всеми уважаемой и почетной, в древнем Карфагене, где бок о бок жили люди многих десятков национальностей, говорившие на разных языках, существовала особая каста «профессиональных переводчиков». Не клан, не гильдия, не профсоюз, а именно каста, т.е., как утверждает Словарь русского языка, «замкнутая общественная группа, связанная происхождением, единством наследственной профессии и правовым положением своих членов»1. Переводчики Карфагена в самом деле имели особый правовой статус и пользовались исключительным преимуществом: они были освобождены от выполнения всяких повинностей, разумеется, кроме перевода. По свидетельству некоторых исследователей, даже внешне члены касты переводчиков отличались от других: они ходили с бритыми головами и носили татуировку. У тех, что переводили с нескольких языков, был вытатуирован попугай с распростертыми крыльями. Те же, кто был способен работать лишь с одним языком, довольствовались попутаем со сложенными крыльями2. Нашим современникам бритоголовые молодцы с татуировками, принадлежащие «замкнутым общественным группам» и пользующиеся особым правовым положением, хорошо знакомы. Правда, сейчас вряд ли у кого-нибудь возникнет мысль о том, что это переводчики. Возможно, карфагенская каста была первым в истории профессиональным объединением переводчиков.
Во внешнем виде древнего переводчика удивляет сегодня не столько то, что он напоминает облик наших современников совсем иной касты, сколько то, что татуировки изображали попугая. Со сложенными крыльями или с распростертыми — это, в сущности, детали. Главное, что не орел, не сокол, даже не ворон, а попугай.
 1 Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.Д. Ев-
1 Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.Д. Ев-
геньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981—1984. Т. 2. С. 38.
2 См.: Van Hoof H. Histoire de la traduction en Occident. Paris; Louvain-la
Neuve, 1991. P. 9.
В языковом сознании современных людей, говорящих на разных языках, попугай — птица с красивым ярким оперением, способная копировать речь человека, — ассоциируется главным образом либо с ярким безвкусным нарядом, либо с определенным свойством: повторять не понимая то, что сказали другие. Иначе говоря, основные дифференциальные семы слова, соотносимого с денотатом непосредственно, превращаются в потенциальные, когда происходит смена денотата: птица — человек. Дифференциальная сема яркости оперения превращается в потенциальную — безвкусной яркости одежды, безвкусицы; сема умения копировать речь человека — в сему отсутствия собственного мнения, высказывания чужих мыслей, повторения чужих слов, бездумного копирования кого-либо.
Языковое сознание французов и русских мало чем различается в данной крохотной области смыслов, навеянных образом уникальной заморской птицы. Во французском языке существует образное выражение vert perroquet, обозначающее очень яркий зеленый цвет. Яркость оперения этой птицы была отмечена человеком давно. Уже в начале новой эры в латинском языке было прилагательное psittacinus, образованное от psittacus (попугай) со значением: яркий, пестрый, как попутай. Человеку не свойственно часто одеваться в одежду такого цвета, а если такое случается, то тут же вспоминается попутай.
В устойчивом сравнении comme un perroquet (как попугай) выходит на первый план уже другая потенциальная сема образа — «не понимая смысла» и в сочетании с глаголом répéter (повторять) образует сравнительный оборот répéter comme un perroquet (повторять, как попугай), прекрасно находящее аналог в русском языке. А затем по законам развития языка возникает метафора un perroquet — тот, кто повторяет чужие мысли.
В русском языке переносные значения слова попугай строятся на основе тех же потенциальных сем, во многом совпадая со значениями французского имени. От переносного значения образован и глагол попугайничать, т.е. повторять чужие мысли, слова, и сравнительный оборот как попугай с тем же значением.
Интересно, что в традиционной для попугаев кличке Петруша угадывается французское слово perroquet как уменьшительное от Perrot, которое, в свою очередь, было уменьшительным от Pierre, а возможно, еще и от латинского Petrus, т.е. Петр.
И, наконец, как апофеоз любви и уважения к образу великой и уникальной птицы, чуда природы родилось хорошо всем известное высказывание попка — дурак)., к которому частенько прибегает человек в общении с попугаем, добиваясь от птицы повторения этого перла. Добившись, человек удовлетворенно смеется, ведь он получил подтверждение, что все-таки умнее попугая.
Странное явление, но очень часто люди, не имеющие представления об особенностях переводческой геральдики в древнем Карфагене, склонны и сегодня отождествлять переводчика с попугаем. Независимо от уровня образованности они нередко идут по пути стандартного, высокомерного, сложившегося веками представления о переводчике как о «слуге двух господ», призванном служить представителям двух культур, повторяя их «великие мысли», как о человеке, которому и не нужно иметь своих мыслей, ведь уже все сказали, повторяй то же самое на другом языке, и дело с концом.
Но вернемся к геральдике (пусть даже на уровне древнего искусства расписывания человеческого тела), точнее к качествам, с которыми человек ассоциирует образ той или иной птицы:
Орел — горд, несговорчив, стремится во что бы то ни стало победить.
Сокол — горд, храбр, но одинок.
Ворон — силен, но склонен клевать падаль.
Бедный попугай! Что же остается ему?
На самом деле остается совсем немало. Попугай — единственная птица, способная копировать речь человека. Речь — как проявление мысли. Кто может с ним сравниться? Орел, сокол, ворон? Все они хороши, но только среди равных, среди пернатых. А попугай? Он же — посредник, промежуточное звено между безмолвной природой и говорливым человеком, да простят мне биологи эту вольную метафору.
Можно вспомнить и об образе попугая в фольклоре, в анекдотах, а ведь там попугай — совсем иная фигура. В народном сознании попугай — это птица, которая живет долго, а потому наделена особой мудростью, не всегда доступной обычному человеку. Анекдотический попугай — это философ, выводящий афоризмы из абсурдных ситуаций и, что особенно важно для нас, абсурдных речений людей.
В характере этой птицы многие склонны усмотреть сарказм. В самом деле, чего только не услышит птица, живущая среди людей. И чего только не приходится слышать бедному посреднику, обеспечивающему диалоги «великих представителей разных культур». Поневоле станешь философом. Может быть, именно такое значение вкладывали в образ попугая древние переводчики Карфагена, гордо нося его изображение на своем теле? Я полагаю, что в самом деле гордо, потому что каста переводчиков была уважаемой и привилегированной.
Правда, довольно быстро ситуация коренным образом изменилась. И уже в Древнем Риме слово interpres {переводчик), как
отмечают некоторые исследователи, носило несколько уничижительный оттенок; interpres — это неумелый переводчик-буквалист1. Такие переводчики (в Древней Руси их называли толмачами) переводили на дипломатических переговорах и сопровождали войска в иностранных походах. Петр Первый, весьма поощрявший переводческую деятельность в России и с уважением относившийся к тем, кто переводил «полезные книги», в одном из распоряжений о подготовке к военному походу определял тем не менее место толмачам в походном порядке среди поваров, конюхов и прочей сволочи...
Кто же он такой — переводчик, этот карфагенский попугай?
Толмач, драгоман, копиист, заурядный билингв, буквалист, покорно следующий букве оригинального текста, раб или мастер слова, соперник, «который от творца лишь именем разнится»; предатель-перелагатель, искажающий текст оригинала в силу своей убогой компетентности, или всесторонне образованный интеллектуал, лингвист и этнограф, философ и психолог, историк, писатель и оратор; свободный художник, не отказывающий себе в праве «по-своему» прочитывать текст оригинала, подобно обычному читателю, или вдумчивый и чуткий иноязычный соавтор; самонадеянный создатель «прекрасных неверных», переделывающий, «улучшающий» и «исправляющий» оригинал в угоду вкусам публики своего века и собственному «я», или скромный труженик, видящий свою цель в том, чтобы как можно точнее и полнее передать людям другой языковой культуры все своеобразие оригинала; мальчик на побегушках, которому не нужно иметь собственных мыслей, или необходимое интеллектуальное звено в цепи межкультурной коммуникации?
Какую форму межъязыковой коммуникации можно считать переводом? Где кончается перевод и начинается интерпретация? Возможен ли вообще перевод? С каких позиций оценивать переводную литературу? Что такое перевод: заурядная, прикладная, второстепенная, «обслуживающая» деятельность или сложнейший творческий процесс, мало чем отличающийся от других видов искусства? Эти и многие другие вопросы, обсуждающиеся уже более двух тысяч лет, не находят однозначного ответа и продолжают интересовать наших современников. До сих пор одна из древнейших на земле профессий, одна из величайших человеческих миссий не получила однозначной оценки общества.
 1 См.: Черфас Л. М. Переводы в римской литературе времен республики: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1948. С. 16.
1 См.: Черфас Л. М. Переводы в римской литературе времен республики: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1948. С. 16.
Глава 1
 ПОЧЕМУ ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ПРЕРЫВИСТА ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ
ПОЧЕМУ ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ПРЕРЫВИСТА ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ
Попытки периодизации истории перевода
Прежде чем начать рассмотрение опыта перевода и истории переводческих учений, приведу высказывание одного из известных теоретиков и историографов европейского перевода Анри Ван Офа, которым он начинает свою книгу об истории перевода в Западной Европе: «Если вы хотите написать историю перевода, вы должны быть готовы ответить на целый ряд вопросов: когда возник перевод? Почему переводят? Всегда ли переводили одинаково? Были ли в истории перевода благоприятные периоды? Список вопросов можно было бы продолжить. Иначе говоря, поле деятельности — обширно. Действительно, изучение теории перевода равносильно изучению истории мира, истории цивилизаций, но сквозь призму перевода и с той лишь разницей, однако, что история перевода не обладает непрерывностью Истории, напротив, в ней обнаруживается множество белых пятен — как во времени, так и в пространстве»1.
Приведенное высказывание Ван Офа заставляет прежде всего задуматься над тем, как должна быть построена история переводческого опыта, приемлема ли для нее принятая всеобщей историей периодизация или же для исторического описания перевода следует установить какие-либо иные вехи.
В современной науке мы встречаем различные подходы к периодизации истории переводческого опыта.
П.И. Копанев выделяет в истории перевода четыре периода. Он полагает, что «в ходе конкретно-исторического рассмотрения практики и теории перевода в целом и художественного перевода в частности все с большей отчетливостью проступают хронологические этапы духовного развития человечества и его многовековой культуры, совпадающие в основном с этапами социально-исторической хронологии мира»2. Он различает первый, или древний, период (рабство и феодализм); второй, или средний (от первоначального накопления капитала до научно-технической революции XVIII в. включительно; третий, или новый, период (конец XVIII — конец XIX в.); четвертый, или новейший, период (конец XIX-XX в.)3.
 1 См.: Van Hoof H. Op. cit. P. 7 (перевод мой. — H.Г.).
1 См.: Van Hoof H. Op. cit. P. 7 (перевод мой. — H.Г.).
2 Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск,
1972. С. 107.
3 Там же. С. 108.
Данная периодизация, разумеется, не лишена оснований. В самом деле, любое явление культуры, каковым является и перевод, может рассматриваться на фоне принятой исторической наукой периодизации человеческой цивилизации. Однако замечание Ван Офа о прерывистости истории перевода как во времени, так и в пространстве, позволяет усомниться в том, что каждый из рассматриваемых периодов оставил в истории перевода особый след и продемонстрировал существенные отличия от того, что делалось в переводе и писалось о переводе в другие исторические периоды. В пределах одного исторического периода могли произойти такие важные события, которые вполне смогли бы составить главные вехи в истории рассматриваемого явления.
Для представления истории перевода эта периодизация оказывается недостаточно эффективной прежде всего потому, что имеет сугубо экономические основания — отношение к собственности (рабство, феодализм, накопление капитала) и построенные на вариантах этого отношения социально-экономические формации. Перевод же не связан напрямую ни с экономикой, ни с общественным строем, ни даже с таким значительным явлением, как научно-техническая революция XVII в. С момента своего возникновения перевод одинаково обслуживает все общественные формации с любым отношением к собственности и с любым уровнем научно-технического развития. Разумеется, для истории перевода интересно, были ли переводчики рабами или свободными гражданами в эпоху рабовладельческого строя, как складывались отношения между переводчиками и феодалами, когда переводчики перестали писать гусиными перьями и т.п. Но все эти и многие подобные интересные вопросы все же составляют периферийную область проблематики истории и теории перевода. Центральная область формируется вокруг одного единственного, главного вопроса теории перевода: что происходит при переводе? Этот общий вопрос включает в себя массу более частных: об эквивалентности и адекватности, о преобразованиях и инварианте, о смысле и значениях, о содержании и форме, о вольном и буквальном, о верности и предательстве и многие другие. С момента возникновения перевода до настоящего времени переводчики решают в основном одни и те же задачи, спорят об одних и тех же проблемах независимо от смены общественно-экономических формаций, от научно-технических и социальных революций.
В то же время нелепо было бы отрицать тот очевидный факт, что перевод имеет богатую событиями историю. Следовательно, эта история может быть так или иначе описана, т.е. перевод может быть представлен в историческом развитии. Дж. Стейнер, автор книги «После Вавилона», предпринимает такую попытку. Но
его периодизация истории перевода строится уже на иных основаниях1.
Предложенная им периодизация представляется более интересной для науки о переводе, ведь этот исследователь изначально концентрирует внимание на значительных явлениях именно в данной области культуры, для него первичным оказываются переводческие события. Более того, периодизация Стейнера показывает не только явления собственно перевода (что, кто, когда переводил), но и эволюцию теоретических взглядов на перевод.
Стейнер также выделяет в истории перевода четыре периода, границы между которыми, по его собственному признанию, вовсе не абсолютны.
Первый период начинается с рассуждений Цицерона о том, как он переводил, точнее не переводил, речи греческих ораторов Эсхина и Демосфена, и работы Горация «Поэтическое искусство» и заканчивается комментариями Фридриха Гёльдерлина, немецкого поэта начала XIX в., к собственным переводам Софокла (1804). В этот период переводческая практика служит материалом для анализа и некоторых выводов. Стейнер признает, что в этот весьма обширный исторический период (18 веков!) было вписано немало ярких страниц в историю перевода, однако несмотря на это, весь период характеризуется явно выраженным эмпиризмом.
Второй период Стейнер называет этапом теории и герменевтических разысканий. Его начало Стейнер связывает с именами Александра Фрейзера Тайтлера, автора очерка о принципах перевода (Туtier Alexander Fraser. Essay on the Principles of Translation), вышедшего в Лондоне в 1792 г., и Фридриха Шлейермахера, чья работа о переводе (Schleiermacher Friedrich. Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens) появилась в 1813 г. В этот период вопрос о природе перевода рассматривается в более широком контексте теорий о взаимодействии сознания и языка. Это эра определения сущности перевода и построения его философско-поэти-ческой теории. В это время уже складывается и историография перевода. Данный период завершается блестящей, но лишенной, по мнению Стейнера, научной строгости книгой французского писателя и переводчика Валери Ларбо «Под покровительством св. Иеронима»2, вышедшей в 1946 г.
Третий период, современный, начинается в 40-е гг. появлением первых статей по теории машинного перевода. Начало этого периода Стейнер связывает с именами русских и чешских ученых, которые, унаследовав, по его мнению, идеи формализма, пытались
 1 Steiner G. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Traduit de l'anglais
1 Steiner G. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Traduit de l'anglais
par Lucienne Lotringer. Paris, 1978. P. 224 et alii; Steiner G After Babel. Oxford, 1975.
2 Larbaud V. Sous l'invocation de Saint-Jérôme. Paris, 1946, 1997.
применить лингвистическую теорию и статистические методы к исследованию перевода. В этот период предпринимаются попытки установить соответствие между формальной логикой и моделями языковых трансформаций. Период отмечен интенсивными научными разысканиями в области перевода. Выходит множество публикаций о переводе. Появляются работы по теории перевода А. Федорова, Р.-А. Броуера, У. Арроусмита и др. Переводчики-профессионалы создают свои организации и начинают издавать свои журналы. По мнению Стейнера, этот период в той или иной степени продолжается и до настоящего времени: логический подход, построенный на оппозициях, а также контрастивный, литературоведческий, семантический и сравнительный методы, наметившиеся и развившиеся в работах 40-х и 50-х гг. XX столетия, успешно применяются и в настоящее время (нужно иметь в виду, что книга Стейнера вышла в 1975 г.). Но с начала 60-х гг. акцент в разысканиях в области теории перевода несколько смещается и начинается новый, четвертый, период.
Начало четвертого периода Стейнер связывает с «открытием» статьи о переводе Вальтера Беньямина (Benjamin Walter. Die Aufgrabe des Üebersetzers), опубликованной еще в 1923 г. и представляющей собой предисловие к переводам Ш. Бодлера, а также с популярностью экзистенциалистских идей Мартина Хайдеггера и Ханса-Георга Гадамера. Новое направление он определяет как герменевтическое. Наступает период почти метафизических разысканий в области письменного и устного перевода, угасания надежд на возможности автоматического перевода, стычек «универсалистов» с «релятивистами». Перевод оказывается полем сражения лингвистов. В это же время теория перевода выходит за пределы лингвистики и становится объектом междисциплинарных научных исследований, располагаясь на стыке антропологии, психологии, социологии, а также таких смежных дисциплин, как этнолингвистика и социолингвистика. Классическая филология, сравнительное литературоведение, лексическая статистика, этнография, социология уровней языка, формальная риторика, поэтика, грамматический анализ смыкаются, для того чтобы прояснить суть акта перевода и механизмы «межъязыковой жизни», заключает Стейнер1.
Но и эта периодизация, несмотря на то что она построена на анализе работ, посвященных собственно переводу, также оказывается уязвимой для критики.
Так, М. Балляр в книге «От Цицерона до Беньямина» (по признанию автора, название книги навеяно именно данной периодизацией), рассматривая периодизацию Стейнера, пишет, что его настораживает даже не столько историческая неопределенность
 1 Steiner G. Après Babel. Paris, 1978. P. 226. 22
1 Steiner G. Après Babel. Paris, 1978. P. 226. 22
классификации Стейнера, так как тот оперирует относительно точными датами, сколько ее безапелляционность, а также возникающее чувство неудовлетворенности. «Мы вправе ожидать развития или обоснования данной классификации, — пишет Балляр, — однако автор этого не делает»1. В то же время, продолжает исследователь, существует, даже если принимать с некоторыми оговорками временные границы, договоренность в различении исторических периодов: античность, Средние века, Возрождение, XVII в., XVIII в. Балляр отдает предпочтение изучению истории перевода именно в таком ключе, чтобы облегчить ориентирование, привязку во времени событий из сферы перевода, даже если подобная периодизация истории может приниматься с оговорками2.
Таким образом, взгляд Балляра на историю перевода близок тому, что мы встречаем у Копанева: он также предлагает рассматривать историю перевода по периодам или эпохам, традиционно выделяемым историей человеческой цивилизации. Однако, как мы видим, периодизация истории, на которую опирается Балляр, отличается от социально-экономической периодизации, составляющей основу исторических разысканий Копанева. Балляр в большей степени, чем Копанев, во всяком случае по замыслу, опирается на явления не материальной культуры (экономики), а духовной. Именно в этом их основное различие. Историю перевода как явления духовной культуры можно изучать по этапам развития именно духовной сферы человеческой цивилизации. Поэтому периодизация истории перевода Балляра, на мой взгляд, более соответствует характеру изучаемого объекта. Однако и она не лишена некоторых недомолвок и субъективности.
Взгляд на периодизацию истории перевода, который мы обнаруживаем в работе Балляра, разделяют и грузинские исследователи Д.З. Гоциридзе и Г.Т. Хухуни. Критикуя концепцию Стейнера, они утверждают, что предложенная им периодизация истории перевода лишена истинного историзма, так как в ней «по существу игнорируются те различия, которые характеризовали развитие перевода и переводческой мысли в течение двух тысяч лет — от античных авторов до европейских романтиков»3. Они, подобно Балляру, избирают для истории перевода периодизацию, основанную на выделении этапов духовной жизни общества, точнее этапов развития литературы. Принимая историко-литературный
 ' Ballard M. De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Lille, 1992. P. 17-18 (перевод мой. - HJ.).
' Ballard M. De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Lille, 1992. P. 17-18 (перевод мой. - HJ.).
2 Ibid. P. 19.
3 Гоциридзе Д.З., Хухуни Г. Т. Возрождение и Реформация в истории перевода
и переводческой мысли. Тбилиси, 1994. В этой работе Джорж Стейнер (George
Steiner) последовательно именуется как Г. Штейнер, что, на мой взгляд, не совсем
точно.
подход к исследованию фактов истории перевода, эти исследователи опираются на мнение, высказывавшееся многими переводо-ведами (A.B. Федоровым, Ю.Д. Левиным, Г.Р. Гочечиладзе) о неразрывной связи перевода с жизнью литературы. Подобный подход вполне правомерен с одной лишь оговоркой: если рассматривать историю только письменного перевода. Однако далеко не всегда переводческая мысль ограничивалась областью литературного перевода. Даже если признать литературой абсолютно все, что написано человечеством, не выделяя в особую область художественное словесное творчество, то и в этом случае остается обширная область устного перевода, также неоднократно привлекавшая внимание исследователей перевода. Поэтому построение периодизации истории перевода в виде кальки истории литературы также оказывается уязвимым, хотя, разумеется, такая периодизация более объективна потому, что в основе и перевода, и литературы лежит речевая деятельность человека.
Критические замечания, высказывавшиеся в адрес периодизации Стейнера, не лишены оснований. В самом деле, выбор имен исследователей и их работ в качестве вех, знаменующих начало и завершение того или иного этапа в истории переводческой мысли, несколько субъективен. В частности, это касается рубежа первого и второго периодов. Существенного сдвига в теории перевода ни в конце XVIII, ни в начале XIX в. не произошло, несмотря на то что в XIX в. философы обратились к проблемам языка и сознания и появились работы по сравнительно-историческому языкознанию. Перевод продолжал рассматриваться лишь фрагментарно, попутно с другими аспектами языка и культуры, точнее взаимодействия языков и культур. Но, как и прежде, размышления о переводе носили главным образом эмпирический характер и возникали обычно по поводу той или иной переведенной книги.
Можно согласиться со Стейнером, что конец 40-х гг. XX в. оказался поворотным моментом в истории переводческой мысли. Это действительно связано с первыми опытами машинного перевода, которые стали возможны благодаря бурному развитию структурной лингвистики и кибернетики. Но переворот в «переводческом сознании» произошел еще и потому, что на перевод взглянули как на особый вид сложнейшей интеллектуальной деятельности, существующей в разных формах и имеющей свои, пока еще не познанные внутренние законы. Предпринимались множественные попытки построения моделей перевода. Изучению подвергались уже не только переведенные тексты в их сравнении с оригиналами. Перевод изучался в большей степени с позиций порождения речи.
Нельзя не согласиться и с тем, что ослабление интереса исследователей к моделированию переводческих процессов, обусловленное некоторой ограниченностью сугубо структурного подхода к переводу, и связанное с ним разочарование в возможностях машинного интереса вновь вывели на передний план личность переводчика, заставили задуматься об объективном и субъективном началах перевода. Разумеется, в центре внимания вновь оказался текст, продукт переводческой деятельности, единственный вещественный источник, дающий возможность вывести скрытые законы перевода. Это действительно было началом нового — герменевтического — этапа в истории переводческой теории.
Следует согласиться со Стейнером, что в настоящее время успешно сосуществуют оба подхода к изучению проблем перевода: и структурно-трансформационный, и герменевтический. Сочетание этих подходов отражает двуединую сущность перевода как изучаемого объекта: понимание смысла текста (герменевтический аспект) и межъязыковое преобразование исходного текста в текст на ином языке. За четверть века после выхода в свет книги Стей-нера крен в сторону герменевтики перевода еще более усилился. Проблема «диалога культур» стала одной из центральных в гуманитарных исследованиях. И опять привилегированным полем исследований, научных и ненаучных дискуссий стал перевод, дающий поистине неисчерпаемый материал для сравнительных культурологических разысканий.
Классификация Стейнера при всей ее уязвимости для критики (нерасчлененность первого периода, охватывающего 18 веков, излишняя категоричность, недостаточность обоснования, отсутствие историчности) тем не менее весьма интересна для теории перевода и истории переводческой мысли. Прежде всего Стейнер не претендует на построение истории перевода. Он лишь пытается представить в историческом ракурсе взгляды на перевод, содержащиеся в некоторых работах, и объединить их вокруг идей или методов познания, доминировавших в тот или иной период. Ведь не случайно построенная им классификация открывается высказываниями о переводе Цицерона, в то время как перевод существовал еще за многие тысячелетия до того. Поэтому историографическая концепция Стейнера представляется вполне состоятельной. Иначе говоря, периодизация истории перевода и истории взглядов на перевод, рассуждений о переводе — не одно и то же.
В то же время определенная неудовлетворенность данной классификацией все же остается. Возникает она из-за того, что первый, эмпирический, период в истории взглядов на перевод не прекратился в начале XIX в. в связи с интересом филологов и философов к проблеме языка и мышления. Эмпирический подход
к анализу переводческих действий, как собственных, так и действий других, оценка их правомерности или, напротив, ошибочности существовали во все века и продолжают существовать поныне. Вспомним высказывания о трудностях перевода, о невозможности перевести те или иные фрагменты текста Августа Шлегеля, основоположника сравнительно-исторического языкознания, или рассуждения о переводе Вильгельма Гумбольдта в XIX в., т.е. в период, о котором Стейнер говорит как о периоде философских взглядов на перевод. В XX в., уже тогда, когда перевод вобрал в себя, пожалуй, все идеи и методы структурной лингвистики, мы встречаем аналогичные высказывания у Н. Любимова, И. Кашкина и многих других переводчиков и литературных критиков.
Эту область взглядов на перевод можно определить как переводческую критику, как самостоятельную, сравнительную по своей сути ветвь литературной критики, которая существует со времен Цицерона. Разумеется, она не остается неизменной и развивается под воздействием новых идей смежных наук: лингвистики, психологии, этнографии, социологии и др. Но в основе ее все тот же эмпирический подход, она все так же опирается на практический опыт переводчиков, анализируя, критикуя, сравнивая переводы конкретных произведений.
Стейнер сам признает, что, несмотря на богатую событиями историю перевода и вопреки значимости тех, кто писал об искусстве и теории перевода, число оригинальных и существенных идей по этой проблематике весьма ограниченно. Почти без исключения от Цицерона и Квинтилиана до наших дней положения повторяются, а рассуждения идут теми же путями1.
Внутри вьщеленных Стейнером периодов было немало интересных и значительных явлений в истории перевода. Возникали новые идеи, одни идеи одерживали верх над другими, менялись литературные вкусы и языковые нормы, изменялись критерии оценки верности перевода. Появлялись работы теоретического плана, в которых находили отражение все эти изменения. Однако ни сами изменения в практике перевода, ни их теоретические обоснования не составляли переходных моментов, знаменовавших завершение одного периода и начало другого. В лучшем случае они свидетельствовали о появлении чего-либо нового на фоне непрерывного процесса переводческой практики и переводческой критики. Иначе говоря, в истории перевода можно выделить моменты, когда какая-либо идея состоялась, возникла. Но, состоявшись однажды, она продолжает жить в сознании людей, занимающихся переводом.
 1 См.: Steiner G. Après Babel. Paris, 1978. P. 226. 26
1 См.: Steiner G. Après Babel. Paris, 1978. P. 226. 26
§ 2. Прерывистость истории перевода во времени и в пространстве. От периодизации — к «событиям»
Прерывистость истории перевода во времени и в пространстве, о которой говорил Ван Оф, не есть прерывистость переводческого опыта. Это прерывистость исторического описания, выбирающего наиболее яркие, значимые элементы из непрерывного как во времени, так и в пространстве процесса переводческой практики. Возможно, поэтому все исторические описания перевода ограничены в основном кругом одних и тех же событий: опыт первого коллективного перевода (Септуагинта), первые рассуждения о разных видах перевода (Цицерон и Гораций), первые рассуждения о пользе перевода как риторического упражнения (Цицерон, Квинтилиан), первые оправдания и обоснования вольного перевода (Иероним), первые трактаты, посвященные переводу (Доле), первый машинный перевод и т.п. Одни из описаний более полные, другие — более скромные, но независимо от того, в каком объеме представлен в них переводческий опыт прошлого, все они построены как совокупность фрагментов, событий, выделяющихся тем или иным аспектом на фоне общего процесса перевода. Поэтому если применить к этим описаниям требование непрерывности, обязательное или во всяком случае желательное для любого исторического описания, то придется признать, что они лишены историчности.